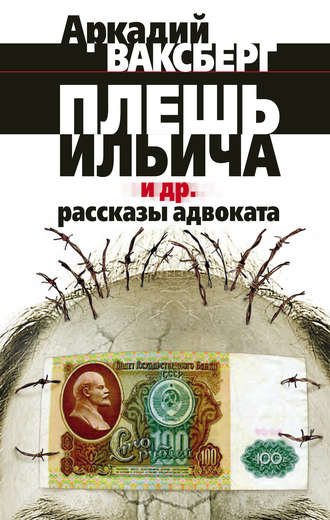
Полная версия
Плешь Ильича и др. рассказы адвоката
Отчего не пройтись, что же, пройдемся, хотя уже ясно, что толку от новой «прогулки» не будет. Она заняла еще не один час. Все – впустую! И когда даже самые несуразные версии продуманы, изучены и отвергнуты, остается только одно: действительно, Стулов преступник. Только он, и никто другой.
Я спешу сказать это вслух и жду, что Брауде меня оборвет, бросит свое обычное: «Из тебя защитник, как из меня балерина». Но вопреки моим ожиданиям он задумчиво говорит:
– Похоже, что так.
Он не верит в «нет» своего подзащитного. Но он должен его защищать.
И он защищает. Он рассказывает суду о нашем ночном споре – рассказывает правдиво, искренне, задушевно. Словно он не в суде, а в кругу друзей, внимающих ему за бутылкой вина. Он делится своими сомнениями. Он недоумевает. Он говорит, что бессмысленные преступления бывают только в плохих детективных романах. Он утверждает, что никто не станет хладнокровно и обдуманно убивать человека себе во вред. Он просит суд при вынесении приговора учесть этот важный довод. Он требует продолжения следствия: пусть блистательный товарищ Маевский, мастерством которого он искренне восхищен, восполнит зияющий пробел в так талантливо им проведенном поиске.
Вечером мы возвращаемся. Снова – к нему, хотя лучше бы разойтись и соснуть: завтра опять на процесс – предстоит последнее слово Стулова. И приговор. Моросит занудный и мерзкий дождичек. Сырость забирается за воротник. Но, похоже, только я замечаю это. Брауде хлюпает по лужам, не разбирая дороги, расстегнув пальто нараспашку и не раскрывая зонта. Он возбужден, его мысли все еще там – в зале суда.
– Чего молчишь? – оглушает он вдруг нежданным вопросом.
Я действительно молчу, но вовсе не потому, что боюсь вспугнуть мысли дорогого патрона. Меня мучает чувство незавершенности. Вопросительный знак – там, где должна стоять точка.
Да, неясностей много, но адвокат не судья. Все, что неясно, – на пользу его подзащитному. Вопросы, на которые все еще нет ответа, – недопустимая брешь обвинения. И значит, хлеб для защиты. Так чего же миндальничать? Надо требовать, а не просить! Так прямо бы и сказать: любой обвинительный приговор будет не просто ошибочен – незаконен. Разве не так?!
– Молодец! – спокойно реагирует Брауде на мой патетический монолог. – Теперь я вижу, что пятерку ты схлопотал не по блату. Давай, продолжай…
Я, конечно, не продолжаю: разве мне по зубам сразить его убийственный юмор?
– Судьи поняли, что вы Стулова не защищали. Просто исполняли формальный долг. Вас выдала интонация.
Никакого юмора больше нет. Улыбка исчезла. Он не зол, но серьезен.
– Пятерку тебе поставили зря: ты путаешь юриста с актером. Я обязан защищать – и я защищаю. Как могу. На всю железку. А играть роль враля, который делает вид, будто верит в то, во что не верит… Приходилось делать и это. Не по своей воле. По своей – не хочу.
Десять лет лишения свободы – таков приговор по делу Стулова, одному из последних дел, над которыми мы работали вместе с Ильей Давидовичем.
Я часто вспоминаю две тяжеленные папки, хранящие следы виртуозного искусства молодого следователя, который, кстати сказать, долго в прокуратуре не удержался, потому что был слишком талантлив, – вспоминаю нашу беседу в тюрьме, и ночной спор, и всю обстановку этого процесса, и прогулку под дождем – после него. Столь странных и увлекательных дел в моей практике было не так уж много. И если бы кто-то спросил, не кажется ли мне, что суд допустил здесь ошибку, я ответил бы не колеблясь: нет, не кажется. Но зачем Стулов убил Лазареву, понять так и не смог.
И вот спустя несколько лет довелось снова услышать знакомую фамилию. В коридоре московского городского суда спросила меня какая-то женщина:
– Не знаете, где здесь судят Стулова?
Стулова?! Неужели нашелся еще один преступник с такой редкой фамилией, по странной прихоти судьбы попавший чуть ли не в тот же зал, где судили того?
Только это был не однофамилец. Это был он сам, мой старый знакомый – загадочный Василий Максимович Стулов.
Он сильно сдал: ни наглой уверенности, ни сытого довольства не было в его отяжелевшем и смятом лице. Только беспокойно бегали налитые кровью глаза и так же, как встарь, нервически дергался его мясистый нос.
Стулов встретился со мной взглядом и, видимо, узнав, сразу же отвернулся.
Я простоял несколько минут в переполненном зале, хотя смысл происшедшего был мне ясен с первых же слов, которые я услышал.
Нет, он не совершил нового преступления. Его судили за старое, за очень давнее – настолько давнее, что, казалось бы, пора о нем давно позабыть.
Но о нем не забыли. Пятнадцать лет искали фашистского полицая, на совести которого была не одна жизнь. Этот поиск – тоже достойный сюжет для рассказа, но к тому делу я никакого касательства не имел, всех деталей не знаю. Да и дел таких в сороковые-пятидесятые годы было немало. От других, на нее похожих, история Стулова существенно отличалась одним. Обычно такие преступники находили способ сменить фамилию и под ней затеряться. Тут же все было наоборот: настоящая фамилия дважды преступника была действительно Стулов, а палачествовал он совсем под другой, уже тогда допуская, как видно, что придется скрываться и – рано ли, поздно ли – держать ответ.
Конечно, он знал, что за ним идут по пятам. Полагал, что в Москве его вряд ли станут искать: беглецы от правосудия предпочитают устроиться в глухомани и на этом горят – как раз в глухомани-то их и находят. Вряд ли не понимал, что может сорваться. Но долго – и к тому же искусно, как видим – ему удавалось запутать следы.
И все-таки он сорвался. Неосторожно вырвавшееся слово заставило Лазареву вздрогнуть. Она ничего толком не поняла, но ей стало ясно, что Стулов скрывает страшную тайну.
Он безошибочно прочел ее мысли. И решил, что Лазаревой не жить…
Хорошо помню: и Маевский, и Брауде предполагали и это. Как сейчас вижу: заваленная бумагами комната, ночничок, тускло горящий в углу. Брауде стоит у окна, вытирает слезящиеся от усталости глаза и ворчит с обычной своей хрипотцой:
– Может, он ее со страха убрал? Может, она прознала о нем что-нибудь? Как ты думаешь?
Мне совершенно не хочется думать, я устал и чертовски хочу спать.
– Не может быть, – вяло говорю я, чтобы сказать хоть что-нибудь.
– Не может быть… – передразнивает Брауде. – Тоже мне Спиноза.
То, о чем смутно догадывались и следователь, и адвокат, подтвердилось. Тогда это были предположения, их нечем было обосновать. Теперь же другие люди, с неменьшим упорством распутавшие клубок другого преступления, доказали правоту талантливых своих коллег, отыскав последнее звено в железной цепи улик.
Загадки больше не было.
Страсти по Саломее
Забыл имя героини, но хорошо помню ее необычную фамилию: Таланкина-Крылова. Сухощавая, угловатая, с выпиравшими из-под туго натянутого платья ключицами дама лет пятидесяти, издали похожая на переростка, которому тесно в детских одеждах. Длинная коса через плечо и нечто похожее на гимназический передник еще больше подчеркивали ее «детскость». При близком рассмотрении, однако, все опрокидывалось навзничь: миловидное лицо представало зловещей маской из-за плохо подтянутых складок и кустарно заштукаренных морщин, а стройный торс – обтянутым кожей скелетом. Симпатичный подросток моментально превращался в Бабу-Ягу.
У нее не было никакой определенной профессии, разве что такая: перманентно чья-то жена. Число ее браков – юридических и фактических (браков – не связей) – подбиралось чуть ли не к двум десяткам. Попутно она баловалась участием сначала в кордебалете каких-то третьестепенных трупп, потом в различных театральных и киномассовках, что давало ей основание именоваться актрисой.
И действительно – вызванная на процесс свидетелем, по ее просьбе, популярнейшая в те годы эстрадная певица Клавдия Ивановна Шульженко называла знакомую ей Таланкину «артисткой, которой не повезло», и отмечала ее «отзывчивость, скромность, даже девичью застенчивость». Пожалуй, в каком-то смысле та и была артисткой, хоть и не очень застенчивой, – это видно из того, как сыграла она свою коронную роль, приведшую ее на скамью подсудимых.
«Жарким летним днем», как написали бы в каком-нибудь сентиментальном романе, ехала наша Таланкина на электричке, направляясь вроде бы на подмосковное кладбище, где была похоронена ее единственная, очень рано умершая дочь Злата. И в том же, битком набитом вагоне ехал морской офицер, красавец двадцати четырех лет, имея совсем иную – не печальную, а счастливую цель: на даче, в лесу возле озера, его ждал известный в стране адмирал, под чьим началом он несколько лет служил. Юная дочь адмирала была его невестой, а недели через две должна была стать и женой.
Никто не знает в точности, что именно произошло в те полчаса, которые капитан-лейтенант Виктор и актриса (пусть так!) Таланкина провели, очень тесно общаясь друг с другом, на «борту» электрички. Итогом явилось то, что вместо обеда у адмирала он оказался на детской могиле, где оставил записку, воткнув ее в холмик (коряво нацарапанная и полуистлевшая, она тоже попала потом в судебное дело): «Дорогая Златочка! Клянусь тебе всегда любить твою замечательную мать и быть ей верным до гроба. Виктор.»
Тем же вечером он приступил к исполнению этой клятвы, о чем в дневнике, который исправно вела Таланкина, была сделана подробная запись. Впоследствии дневник тоже приобщили к судебному делу в качестве вещественного доказательства. На правах помощника адвоката, защищавшего Таланкину, я имел возможность с ним ознакомиться. Это было первое, прочитанное мною, откровенно эротическое сочинение с довольно искусно выписанными натуралистическими подробностями – они свидетельствовали как минимум об одном: в порыве безумной страсти авторесса ни на минуту не теряла контроля над собой и дотошно фиксировала в памяти всю феерию их любви. У дневника был эпиграф – из Игоря Северянина: «Для изысканной женщины ночь – всегда новобрачная…» Тоже, между прочим, любопытный штришок: стихи Северянина – эмигранта и «декадента», кумира, как считалось, растленной буржуазии – давно уже не только не издавались, но и были изъяты почти из всех библиотек. Зато они пребывали в личной коллекции артистки Таланкиной и усердно ею читались. Впоследствии я увидел один из растрепанных томиков приобщенным к судебному делу – он был весь ею исчеркан и снабжен пометками, выражавшими бурный восторг в определенных местах определенного содержания. К поэзии как таковой этот восторг отношения не имел. Двумя жирными чертами и четырьмя восклицательными знаками на полях была, к примеру, отмечена строчка из известного стихотворения «Это было у моря…». Строчка такая: «А потом отдавалась, отдавалась грозово». Поэт, как видно, распалял ее воображение и придавал вполне заурядным порывам плоти какой-то особый, возвышенный смысл.
В деле (а может быть, в моей памяти?) не осталось никаких следов, которые помогли бы понять, как адмирал реагировал на внезапное исчезновение своего без пяти минут зятя. Где вообще служил капитан-лейтенант и хватился ли кто-нибудь, обнаружив его пропажу? Известно лишь, что ни родителей, ни просто близких людей в Москве у него не было, адмирал относился к нему как к сыну и готов был принять его в свою семью. Исчезновение зятя, который не состоялся, скорее всего воспринял как предательство, как подлость и вычеркнул его навсегда из своей головы. Впрочем, это не больше, чем домысел. Факт остается фактом: судя по всему, розыск офицера не велся.
Таланкина укрыла Виктора в какой-то развалюхе в Марьиной Роще – в отъединенной от соседей однокомнатной квартирке, практически без удобств, с наглухо задраенными окнами. Там они предавались любви, о чем она педантично делала ежедневные записи в своем дневнике. Уходя за продуктами, замыкала его на ключ.
Как коротал он долгие часы одиночества – при свете всегда горящего ночника? О чем думал, долгими неделями не видя солнца, которым в то лето наслаждалась Москва? Про это в дневнике Таланкиной нет ни единого слова. Зато есть много о том, какими, неведомыми ему дотоле, утехами забавляла она его, предварительно накормив калорийной едой. Много позже я понял: все ее экзотические приемы были заимствовавны из «Кама-Сутры», тогда еще никому у нас не доступной. Никому, стало быть, кроме Таланкиной…
Через какое-то время его терпению пришел конец. Виктор потребовал воли – хотя бы для того, чтобы «немного подышать». Блистательный офицер таял на глазах. Уже не только ночами, но и днем его душил кашель. Ей показалось, что начинается туберкулез: она встревожилась не за него – за себя. Милостиво разрешила показаться врачам.
Это было, кстати, тогда совсем не так просто: у офицера не было московской прописки, даже в платных поликлиниках без документов не принимали. Но такого рода препятствия для Таланкиной не существовало. Как она преодолела их, я не знаю, да и для рассказа нашего эти подробности значения не имеют. Преодолела…
Следила исподтишка за его передвижением по городу и однажды обнаружила, что он заходит не только в поликлинику – еще в какой-то многоэтажный дом. Как и во всяком доме, там скорее всего проживали и молодые дамы. Ее фантазии хватило, чтобы додумать, кого бы он мог навещать и чем это может закончиться. К тому же его бурная страсть резко пошла на убыль: оба эти события она связала одно с другим. И приняла решение.
Впоследствии дотошный следователь, найдя при обыске читательский билет Таланкиной в главную государственную библиотеку, которую никто не называл иначе как «Ленинкой», и поразившись ее потребностью в знаниях (для чтения беллетристики никто в «Ленинку» не ходил), поработает там несколько дней – в отделе, где хранились листки с заказами на книги, и найдет то, что искал. О чем смутно догадывался – так будет точнее.
Круг интересов артистки в этот период оказался весьма специфичным: она углубилась в сочинения по фармацевтике, изучая все, что написано там о ядах. В двух местах на полях книг сохранились даже пометки: экспертиза установила, что они были сделаны ее рукой. К тому же (случается и такое!) именно эти книги, кроме нее, не заказывал многие годы вообще ни один читатель.
Легко догадаться о том, что было после. Труднее – о том, что было после этого «после». «Ты клятвопреступник! – восклицала она, когда Виктор, отравленный какой-то безумной смесью, уже корчился в агонии, утратив способность даже кричать. – Ты обманул мою Златочку! Ты надругался над ее светлой памятью! Я имею теперь полное право тебя убить!» Никто не слышал этих слов – она сама записала их в своем дневнике. Записала и то, что случилось потом, когда, после адских мучений, Виктор уже погиб.
Она заранее готовилась и к этому. Самым обыкновенным топором Таланкина отрубила его голову и завела на патефоне предварительно купленную пластинку: танец Саломеи из оперы Рихарда Штрауса. Она исполняла его на каком-то просмотре при поступлении в балетную труппу. И была принята! С тех пор этот танец она считала – цитирую ее показания на следствии – своим «талисманом, который не только приносит счастье, но открывает все двери». Трудно понять, какие двери собиралась она открыть на этот раз. Но в том, что преступление ей удастся скрыть, – не сомневалась.
В ее руках был теперь не реквизит, не муляж – истинная голова истинной жертвы… Ночью она закопала ее под окном той развалюхи, где прошли их бурные дни и ночи. Обезглавленный труп вывезла за город, на какую-то свалку. И вскоре была арестована: как поиск привел именно к ней – это большого интереса не представляет. Могу лишь сказать, что сыщики – те, что занимались раскрытием уголовных преступлений, подлинных, а не мнимых, – были тогда в своем большинстве профессионалами высокой пробы, страх вполне реальных последствий повелевал им не расслабляться и все время показывать, что называется, товар лицом. Правда, и сами преступники были не столь искусными, как ныне, да и на подкуп, конечно, за ничтожнейшим исключением, рассчитывать не могли.
У Таланкиной не было никого, кто мог бы пригласить для нее адвоката. А он – по процедуре – ей полагался: в таких случаях его бесплатно предоставляла коллегия. Узнав про телефонограмму из городского суда и – в общих чертах – о рассказанном выше сюжете, им загорелся самый знаменитый в те годы московский адвокат Илья Брауде, участник крупнейших судебных процессов, многие из которых не могли миновать весьма и весьма селективную в таких случаях советскую прессу. Я много рассказываю о делах, проведенных с ним, оттого и представляю его заново в каждом рассказе.
Брауде потребовал, чтобы защита была поручена только ему. Все свои самые знаменитые дела он вел, так всегда получалось, совершенно бесплатно. Но они-то и приносили ему ту известность, которой неизменно – в куда более заурядных делах – сопутствуют деньги. Мне повезло: перед тем, как стать полноправным членом коллегии адвокатов, я проходил стажировку у Брауде и на этих правах был допущен к процессу.
Другого подобного процесса мне видеть не приходилось. Не столько по существу, сколько по атмосфере, царившей в зале. Председательствовала одна из старейшин советской юстиции, член Московского городского суда Чувилина, обвинял один из самых известных в то время прокуроров Николай Шанявский. Народу слетелось видимо-невидимо, за отсутствием мест многие расположились прямо на полу, на ступеньках, ведущих к судейскому столу, и даже просто рядом с Таланкиной – на скамье подсудимых, слишком просторной для этого дела, рассчитанной не на одного, а на нескольких обвиняемых. Непосвященный мог сразу и не разобрать, кто на этой скамье подсудимый, а кто просто зритель. Значительную часть этих зрителей составляли студенты медицинского института – их привела с собой профессор Фелинская, знаменитый в ту пору специалист по судебной психиатрии: она выступала в роли эксперта.
В своем гимназическом наряде, с косой через плечо, Таланкина чувствовала себя актрисой на сцене – кому-то томно улыбалась, кому-то посылала воздушные поцелуи. Я сидел рядом с Брауде, спиной к ней: оборачиваясь, видел ее – казалось, силком натянутую на череп – зловещую маску и запавшие голубые глаза с густо намазанными тушью ресницами.
В перерыве проникшиеся ко мне симпатией девочки-секретарши, хихикая, провели меня в какой-то подвальный чулан, где хранилось еще одно вещественное доказательство: оно фигурировало в материалах дела, но не выставлялось напоказ в зале суда. Это был заспиртованный в банке пенис несчастного Виктора: до самого ареста Таланкиной он служил главным украшением того закутка, где свершилось убийство и где она продолжала жить – весьма своеобразный дизайн в захламленном и мрачном логове.
На этом процессе Брауде чувствовал себя в своей стихии. Излюбленным методом его защиты были аргументированные ходатайства о признании подсудимого невменяемым. Он и диссертацию написал об этом – о том, как психическая болезнь освобождает совсем от ответственности или делает ее менее суровой.
Это много позже психушка стала пострашней и лагеря, и тюрьмы – в шестидесятые-восьмидесятые годы от карательной медицины старались избавиться все, кому ее навязывали спецслужбы. А в те, более ранние, времена психиатрическая клиника с полным к тому основанием считалась избавлением от куда большего зла. Гулаг, во всяком случае, не шел с ней ни в какое сравнение. Адвокат, которому удавалось так повернуть дело, чтобы его клиента поместили в психишку, считал себя победителем. И действительно был таковым.
В деле Таланкиной эта позиция напрашивалась сама собой. Но профессор Фелинская спутала все карты защиты. Очень яркая, эффектная, крупная, уверенная в своей неотразимости и своей компетентности, с несомненным ораторским даром, она убедительно – по крайней мере, на первый взгляд – доказывала, что в данном случае речь идет об имитации душевной болезни очень опасным для общества, предельно развращенным и извращенным во всех отношениях человеком.
Давая заключение, она обращалась не столько к суду, не столько к прокурору и адвокату, сколько к залу – к своим студентам, не сводившим с нее восхищенных глаз и покрывшим ее страстную речь бурными аплодисментами. В советском суде это было просто немыслимо! Нарочито бесстрастная Чувилина взвилась от возмущения. Особо восторженных пришлось выводить из зала. Увлекшись этим занятием, конвой на какое-то время оставил Таланкину одну, и она свободно обошла несколько приглянувшихся ей мужчин, обольстительно заглядывала в глаза, многозначительно и благодарно пожимала им руки. Потом ее возвратили на отведенное ей место – процесс продолжался.
Последовал еще один неожиданный поворот: получив слово для обвинительной речи, Шанявский произнес то, что никогда еще не звучало в зале суда и не было предусмотрено никаким законом. Он сказал, что не может позволить себе обвинять человека, которого он убежденно считает душевнобольным. Но и отказаться от обвинения при наличии экспертного заключения о вменяемости подсудимой не может тоже.
«Как поступить? – спрашивал он вслух и суд, и себя. Суд безмолствовал. Шанявский принял решение. – Мне не остается ничего другого, – сказал прокурор, – как отказаться от речи и от дальнейшего участия в процессе».
С этими словами, на глазах у обескураженных судей, Шанявский поднялся и, опираясь на палку (он сильно хромал), проковылял к двери.
Вот тут-то и наступил для Брауде его звездный час. Оппонентом осталась одна Фелинская. Но в отличие от прокурора она – эксперт – не имела по закону права на ответную реплику. Единственное (оно же последнее) слово сохранялось за адвокатом. Он мог говорить все, что хотел, Фелинской довелось лишь молча слушать его и сардонически улыбаться.
Брауде ухватился за одно наиболее слабое место в речи Фелинской: она утверждала, что, подробно излагая в дневнике хрестоматийные симптомы своей мнимой душевной болезни, Таланкина, напротив, демонстрирует критическое к себе отношение, «взгляд со стороны», а это является признаком душевно здорового человека. «В том, что несведущим людям кажется свидетельством болезни, – восклицала Фелинская, – специалисты легко усматривают симуляцию». Процитировав этот пассаж из ее выступления, Брауде впился в Фелинскую цепким взглядом и, хорошо зная, что ответить ему она все равно не сможет, стал шпынять ее риторическими вопросами.
– Значит, Достоевский не страдал эпилепсией? Он же детально воспроизвел все ее симптомы в «Идиоте». А у Мопассана не было раздвоенного сознания, не было мании преследования, он не страдал кошмаром галлюцинаций? Значит, он все это попросту симулировал, раз сумел написать «Орля» и с беспощадной точностью воспроизвести все признаки своей болезни? Тогда, выходит, и у Есенина не было никакой белой горячки, если он точнее и лучше всякого психиатра воспроизвел ее симптомы в «Черном человеке»? Вы мне скажете: эвон, куда хватил! При чем тут Таланкина – рядом с Достоевским, Есениным и Мопассаном? Но у нас ведь не урок истории литературы, а – волей-неволей, нас вынудила к этому профессор Фелинская, – урок психиатрии. Для врача нет и не может быть писателей и балерин – есть только больные. И если больные имеют элементарный багаж знаний, если они еще не дошли до полного распада сознания, то они остаются способными описывать свои переживания. Одни – гениально, как это сделали названные мною классики. Другие – в меру своих ординарных способностей, как это сделала Таланкина. Ваша карта бита, профессор, как сказал один герой одной повести пера одного писателя.
Аплодировать было некому. Но (возможно, мне так показалось) непререкаемый авторитет Фелинской в глазах ее студентов чуть-чуть пошатнулся. Во всяком случае, Брауде заставил их о чем-то задуматься и подвергнуть критическому анализу то, что считалось бесспорным.
И только судью он не заставил задуматься ни о чем. На итог процесса блестящий его монолог (один из последних, кстати сказать, в его долголетней и очень успешной карьере) влияния не оказал.
Таланкину осудили на десять лет и отправили в какой-то уральский лагерь. Помнится, Брауде говорил мне, что получил от нее из лагеря одно сумбурное письмо, содержание которого осталось для меня не известным. Вскоре он умер – рухнул внезапно, едва перевалив семидесятилетний рубеж. На похоронах я увидел Чувилину – она принесла букет хризантем и, ни с кем не обмолвившись ни единым словом, ушла.
А еще через несколько месяцев к ней, в служебный ее кабинет, явилась Таланкина: все такая же Баба-Яга, но со здоровым румянцем на впалых щеках. Уральские эксперты признали ее душевнобольной, и, чтобы не затевать многосложный новый процесс, местная Фемида пошла по простейшему пути: тамошние судьи «сактировали» ее, то есть освободили от дальнейшего отбытия наказания по состоянию здоровья. Тогда это часто практиковалось «для разгрузки колоний»: зэков все прибывало и прибывало, вместить их гулаговские резервации уже не могли, нужны были только здоровые, способные тянуть лямку рабского труда – даже в женских лагерях, а не только в мужских.

