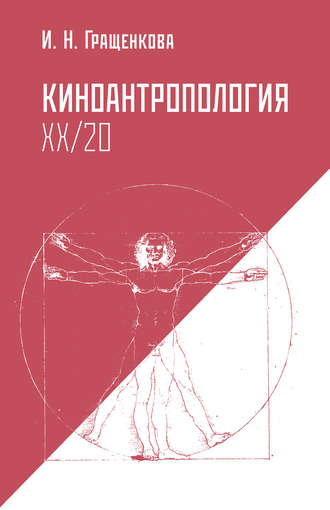
Полная версия
Киноантропология XX/20
«А ведь это сверху кажется – внизу масса, а тут отдельные люди живут», – определил картину жизни 20-х писатель Андрей Платонов. Подавляющее большинство лишили личного пространства— собственного дома или квартиры и загнали в коммуналки, где в едином пространстве сложилась особая обобществлённая повседневность. Места общего пользования, кухня как центр общественной жизни, парадный и чёрный ход во двор и на помойку. Телесный опыт (еда, гигиена, сексуальность) – всё теряло интимность, прослушивалось, просматривалось, о/б/суждалось. Запиравшиеся комнаты оставались единственной личной, закрытой территорией – и интеллигента, и хулигана, и общественницы, и бывшего владельца всей квартиры. Из таких разных персонажей «коллективная семья» сложиться не могла, как мечтали социологи-радикалы, идейные сторонники и проповедники коммуналок. Например, Леонид Сабсович, противник не только отдельных квартир, но и собственной мебели и сторонник жёсткой регуляции повседневной жизни через постоянно включённое радио. Миллионы уже никогда не забудут характерного голоса диктора Гордеева, который всю страну будил по утрам, приглашая на утреннюю гимнастику.
Даже в таком социальном инкубаторе, как коммуналка, новый культурно-антропологический тип человека («человека массы») вывести не удалось. Одних просто расчеловечили, высвободив худшие качества людской натуры и национальной ментальности. Другие, вступив во внешние, поверхностные отношения с новой системой жизни, сохранили себя как смогли; меньшинство открыто противоборствующих социальной действительности было ею так или иначе уничтожено. В течение семи десятков лет, сменяя друг друга, прожили своё несколько поколений русских, российских людей, а не миллионы «поручиков Киже». Эксперимент по созданию «нового человека», о необходимости которого говорили большевики и «левые» от интеллигенции, результатов не дал. А если и по сию пору кто-то считает себя принадлежащим советской породе, пусть считает. Но тогда слово «человек», пожалуй, лучше заковычить. «Красный граф» Алексей Николаевич Толстой жаловался другу: «Я иногда чувствую, что испытал на нашей дорогой Родине какую-то психологическую, или, скорее, патологическую деформацию». А ведь этот человек был защищен культурой, талантом, избранным кругом общения, большей мерой свободы, чем миллионы его соотечественников.
Среда обетованная
Жилищный кризис в Советской России приобрёл хронический характер. Прав был Михаил Булгаков – нас испортил квартирный вопрос и, видимо, навсегда. Все домовладения были национализированы. Весной 1918 года начался квартирный передел, механизм которого предложил Ленин: введение нормы квадратных метров жилья на взрослых и детей. Норма постоянно уменьшалась – от 10 кв. м на взрослого до 6,9 – для рабочих и 4,9 – для служащих. Когда в конце 20-х в крупных городах поднялась новая волна жилищного кризиса, нормы жилья опять уменьшили, а гражданам предложили самоуплотнение: в течение трёх недель нужно было самому найти жильцов на излишки квадратных метров, пока этим не занялись соответствующие организации. Поддерживался в неустанном движении маховик переселений, уплотнений, создания всё новых коммуналок. Авторство этой идеи не принадлежало большевикам, они её позаимствовали у «старших товарищей». Декретом Парижской коммунны от 24 апреля 1871 года была проведена экспроприация опустевших квартир и брошенного имущества бежавших из Парижа буржуа – в пользу бездомных и городской бедноты. Большевики, правда, пошли дальше, используя отнюдь не пустующую жилплощадь, подселяя кого угодно к кому угодно. Так, даже у Шаляпина в его петроградской квартире появились соседи. С января 1921 года была отменена плата за жилье, а когда весной 1922 была восстановлена, то оказалось, что этот «квартирный коммунизм» довёл жилой фонд до состояния руин. В годы НЭПа положение удалось несколько улучшить за счёт кооперативного и частного строительства жилья с правом продажи и обмена. Но строили дома небольшие – максимум четыре квартиры, а, главное, земля под ними была государственной. Позднее и это запретили, так что долгие годы единственным застройщиком было государство. Жилая площадь превратилась в средство наказания, поощрения, социальной манипуляции. Многие, точно крепостные, были приписаны к предприятию и учреждению: уволился – потерял жильё. Эйзенштейн получил отдельную комнату в коммуналке на Чистых прудах после того, как члены Домкома, посмотрев фильм «Броненосец «Потемкин», «добровольным» переселением жильцов решили его квартирный вопрос. А академику И. П. Павлову, «принимая во внимание совершенно исключительные научные заслуги, имеющие огромное значение для трудящихся всего мира», правительство построило даже домовую церковь.
1919 год был отмечен массовым переселением рабочих в лучшие здания Москвы с обязательным переустройством быта на коллективных началах. Так, улучшение жилищных условий было куплено дорогой ценой – сломом житейского и семейного уклада сотен тысяч. В этом году переселили более полумиллиона рабочих, и на карте столицы появились 102 дома-коммуны: в 1921-м их было уже 559, в 1922-м – более тысячи. Никакого индивидуального пространства, даже сон, и тот в коллективе. В знаменитом доме-башне Мельникова вся семья архитектора (без различия пола и возраста) спала в одном помещении, разгороженном лёгкими щитами. Процесс освобождения квартир, подготовки зданий, вселения новых жильцом курировало «Общество по организации рабочего быта» во главе с Ф. Э. Дзержинским.
Дом – укрытое, замкнутое, жизнетворящее, жизнеохраняющее, антропологическое пространство, где частная жизнь человека обретает неповторимо-личностные формы. Стены отделяют и защищают от внешнего мира, а окна становятся глазами человека в этот мир. Окно появилось в Древней Греции, квартира, так называемая инсула, – в Древнем Риме, а Англия подарила человечеству заповедь отношения к жилищу: «Мой дом – моя крепость». «Мой», «моя» – это единственное число первого лица было враждебно социалистам всех мастей, и они всегда покушались на индивидуальную, интимную модель жилища. Идея социалиста-утописта Шарля Фурье – создание трудовой общины (фаланги), проживающей коллективно в огромном дворце (фаланстере). Знаменская коммуна писателя-народника Василия Слепцова в Петербурге. … В 20-е в духе времени слово «жилище» сменилось другими – «жильё», «жилплощадь», «дом-коммуна».
Дом-коммуна – так называлось муниципальное жильё, передаваемое предприятиям, организациям, людям одной профессии под заселение и хозяйственное управление. Кстати, так уже в XX веке реализовалась идея революционеров-народников Петрашевского и Буташевича. Большинство коммун было рабочими, затем возникли студенческие, военные, педагогов-коммунистов, московских писателей. Знаменитая коммуна инженеров и писателей по адресу: Ленинград, улица Рубинштейна, 7 была названа острословами «Слеза социализма». Для партийной верхушки в лучших гостиницах Москвы и Петрограда-Ленинграда создавали Дома Советов. «Лучшим проводником коллективизма могут явиться коммуны рабочей молодежи. Общность условий жизни – вот то, что необходимо прежде всего для воспитания нового человека»,– утверждала молодёжная газета «Северный комсомолец». Именно так была организована в 1928 году Дубровская коммуна по инициативе рабочих завода АМО. В коммуне всего 30 человек, хотя еще многие и многие хотели бы стать её членами. Но в распоряжении коммуны передали всего одну небольшую квартиру. Люди здесь собрались разные: по возрасту – от 45 до 2 месяцев, по занимаемой должности и получаемой зарплате – одни получали в месяц 30 рублей, другие – до 300. И все до единой копейки, в том числе и премиальные, идут в общий котел. Дети воспитываются все вместе, сообща живут в одной лучшей комнате, коммунары откладывают деньги им на дачу. Несколько лет назад взяли в коммуну общую домработницу – молодую неграмотную деревенскую девушку. Сообща учили грамоте, политграмоте, помогли устроиться на завод, приняли в коммуну. Потом той же дорогой в коммуну пришла вторая, третья. Здесь и радости, и горести поровну – на тридцать частей. Сообща пишут летопись коммуны – ведут дневник.
Определяя социальные и этические корни этого «маленького коммунизма», Михаил Кольцов писал: «Взяли за основу, за единицу своей коммуны не «коммунистического монаха», жаждущего в экстазе во что бы то ни стало слиться с коллективом в бытовом монастыре, и не казарменную душу, для которой высшее достижение – спать, есть и танцевать по команде, по свистку. Они пошли по другому пути. Во-первых, по пути естественного освобождения отдельного трудящегося от скуки и угнетения мелкого домашнего хозяйства. И, во-вторых, по пути товарищеского сближения политически близких, классово родных друг другу людей».
Молодёжь, комсомольцы активно поддерживали такую модель жизни, по их мнению, освобождающую от «мелкобуржуазных настроений семьи, домашнего существования». «Половой вопрос просто разрешить в коммунах молодёжи. Мы не чувствуем половых различий. В коммуне девушка, вступающая в половую связь, не отвлекается от общественной жизни. Если вы не хотите жить, как ваши отцы, если хотите найти удовлетворительные ответы на вопросы о взаимоотношении полов, стройте коммуну рабочей молодёжи». Так соединил воедино два вопроса – жилищный и половой – комсомолец завода «Серп и молот», написавший в журнал «Смена» целый трактат под названием «Половой коммунизм».
Но как ни старались публицисты, социологи, архитекторы-радикалы, модель дома-коммуны постепенно изживала себя, как всякая романтическая утопия, а сами дома превращались в обветшалые общежития без удобств. Последним в столице, в Замоскворечье, на Хавской улице, в 1928—1929 годах был построен показательный дом-коммуна. Тысяча жильцов (90% – рабочие, остальные – служащие) была расселена в квартирах без кухонь, с общими удобствами. Детские ясли, клуб, читальня, спортзал составляли общественный сектор. Но пятую часть жилища пришлось превратить в отдельные квартиры. Вселяясь в этот дом, жильцы брали на себя обязательства «за год ликвидировать неграмотность, пьянство, хамство, религиозность».
Официально коммуны существовали до 1934 года, когда XVII съезд ВКП(б) приговорил саму идею как «уравниловски-маниловские упражнения левых головотяпов». Зато коммунальное жильё (коммуналки) на долгие десятилетия, на жизнь многих поколений стало осуществлённой моделью социализма. Необходимость жить так близко, тесно с чужими людьми, коллективно пользоваться объектами личной гигиены, была аморальна и антисанитарна. Коммуналки не случайно становились зоной социальной напряжённости, бытовой конфликтности, тотального контроля над личностью.
Последним аккордом утопической архитектурной симфонии явилась идея строительства Дворца Советов в Москве. Осенью 1931 года в Музее изобразительных искусств были представлены 160 отечественных и зарубежных проектов. Позднее победителем был объявлен советский архитектор Борис Иофан, выпускник Римского университета, проживший девять лет в Италии и приехавший в СССР за свободой творчества и экспериментов. Но на его долю уже достался только переход от конструктивизма к неоклассике имперского стиля. Его 420-метровое сооружение представляло гигантский постамент (340 метров) и теряющуюся в поднебесье скульптуру Ленина на нём (ещё 80 метров). Функциональное назначение этого чудовища было таково: место для массовых заседаний и манифестаций в залах на 6 и 25 тысяч, а также высотная библиотека в голове вождя. К началу Великой Отечественной войны на месте взорванного храма Христа Спасителя успели вырыть котлован и возвести семиэтажный каркас, металл которого пошёл на противотанковые ежи (конструкция генерала Михаила Гориккера), защищавшие Москву в 1941 году. А непостроенный Дворец ещё долго украшал столичные путеводители как символ-фантом.
Борис Иофан – это и печально-знаменитый Дом на набережной, составляющей которого был кинотеатр «Ударник» с раздвигающейся крышей. Но лишь раз во время церемонии открытия кинотеатра звёздное небо «вошло» в зрительный зал. При этом заклинило пусковой механизм, и небесная сфера закрылась навсегда. Однако архитектор продолжал штурмовать небеса. Гигантский павильон СССР на Всемирной выставке 1937 года в Париже, увенчанный скульптурой Мухиной. Здание университета на Ленинских горах на самой его высокой точке должна была украсить фигура М. В. Ломоносова, и только благодаря передаче проекта другому архитектору он «усидел» на земле. Борис Иофан закончил свой путь в здании, им самим спроектированном и построенном сорок лет назад в санатории «Барвиха».
Российские архитекторы приняли революцию как конец частной собственности на землю и частного заказа на строительство. Не случайно ни один из самых именитых, авторитетных за рубежом мастеров не покинул страну. И 20-е годы оправдали их ожидание, стали периодом небывалого расцвета авангардной архитектурной мысли, экспериментальной строительной практики, профессиональной общественной активности. Лидер и идеолог европейского конструктивизма Шарль Эдмон Жанере, известный под псевдонимом Ле Корбюзье, утверждал: «… только русская художественная душа допустила чудо – устремление к огромной общей мечте». Он, мечтавший о перестройке Парижа, Антверпена, Рио-де-Жанейро, принял активное участие в реконструкции Москвы. Архитектурные направления и стили 20-х складывались в яркую и контрастную картину: рационализм, неоклассика, пролетарская классика, конструктивизм. Именно конструктивизм в 20-е господствовал и в театре, и в кино, и в архитектуре, связанный с именами трёх братьев Весниных, Моисея Гинзбурга. Но в это же время до 1922 года ещё жил, работал и даже возглавлял Московское архитектурное общество выдающийся представитель русского модерна Фёдор Осипович Шехтель. Но вскоре один из ведущих мастеров архитектуры Серебряного века, один из основоположников русского модерна должен был уступить лидирующую позицию в архитектурном сообществе. В 1926 году Шехтель, построивший красивейшие особняки Москвы, умирал в коммуналке от рака желудка, без обезболивающих, почти в нищете.
В 1920-м начал строительство радиобашни выдающийся инженер-конструктор, создатель первого в России нефтепровода, около 500 крупнейших мостов, арочного дебаркадера Киевского вокзала, стеклянных перекрытий Торговых рядов на Красной площади Владимир Григорьевич Шухов. Из-за нехватки металла пришлось отказаться от спроектированной им высоты в 350 метров, но и 150-метровая, она долго была самой высокой в СССР. Один из семи шедевров русского архитектурного авангарда – и функциональная, и красивая – башня возводилась без подъёмного крана и лесов, в основном, руками красноармейцев на ветру и двадцатиградусном морозе. Рухнула часть строения, двое рабочих погибли, и Шухова приговорили за «саботаж» к условному расстрелу». 19 марта 1922 года радиобашня приняла первый сигнал. Шухов отказался от наград, прося одного – снять с него обвинение и наказание, уже стоившие жизни его матери и его сыну.
Чем хуже жило большинство (перенаселённость городов, отсутствие транспортной сети, запущенность жилищ, скученность в коммунальных квартирах), тем пышнее цвела архитектурная мысль (конкурсы, диспуты, эстетические платформы, уникальные проекты). Оглядываясь назад, понимаешь, что творческая активность в этой сфере была своеобразным клапаном, с помощью которого снижались социальная напряжённость и массовое недовольство. Новизна идей, разнообразие форм, неудержимость фантазии, а, главное, несоответствие возможностям и потребностям общества, невыполнимость, утопичность – всё это вместе замораживало и охлаждало протестные настроения. Появилось направление так называемой бумажной архитектуры, даже не рассчитанной на реализацию, но, несомненно, движущей вперёд сам вид этой деятельности. Ивана Ильича Леонидова, у которого был осуществлён только один проект (лестница в Кисловодске), называли архитектором-футурологом и великим мастером. Его «Кинофабрика» действительно принадлежала будущему и той киноиндустрии, тому киноискусству, которых и в проекте ещё не было.
Архитектор Константин Степанович Мельников специализировался на проектировании и сооружении зданий нового социального профиля – рабочих клубов. Время, когда их открыли в разгромленных храмах, миновало. Строить начали специально и капитально – так, чтобы из мрачных бараков и коммуналок сюда, в эти «места всеобщей радости» хотелось постоянно приходить. Его сооружения напоминали огромные скульптуры. Например, Клуб коммунальщиков имени Русакова в Сокольниках был изваянием символа эпохи – трактора. Внутреннее пространство мельниковских клубов задумывалось многофункциональным, трансформирующимся – система залов, меняющих назначение и объем. Технически и экономически многие открытия архитектора были опережающими, преждевременными. Так, ему как главному архитектору Центрального парка культуры и отдыха имени Горького не удалось создать гигантский партер (от входа со стороны Крымского моста до Нескучного сада) с огромным фонтаном в центре. Недоделки, переделки, упрощения постоянно сопровождали реализацию проектов Мельникова. Пожалуй, только круглый дом, построенный по собственному проекту в 1927—1929 годах для своей семьи в сердце старой Москвы, в Кривоарбатском переулке,– абсолютное воплощение его замысла.
Стремление к абсолюту, эталону было свойственно авангардной архитектуре 20-х, мало заинтересованной в массовом внедрении проектов. В 1927 году открылась первая образцовая школа (с лабораториями, спортивными сооружениями, механизированной столовой, помещениями для различных кружков, танцев, с душевыми). В 1929-м заработала Первая фабрика-кухня – чудо технологии и санитарии. – Приняла больных первая поликлиника, оборудованная по последнему слову медицинской техники. Фантастически смотрелись среди ветхих построек новые показательные дома. Знаменитый Дом промышленности в Харькове (автор проекта – ученик Леонида Бенуа Андрей Белогруд) – стекло и бетон, 4 тысячи окон. Он вместил 30 учреждений, гигантский зал для заседаний, столовую, поликлинику. Такой мог быть только один – образец конструктивизма, символ эпохи. Именно в таком качестве предъявил его в фильме «Обломок империи» режиссёр Фридрих Эрмлер. Кинематографисты, показывающие кто образцовые ясли (Абрам Роом в «Ухабах»), кто грандиозную рабочую столовую (в «Обломке империи», а кто специально перед камерой возводящий механизированную молочную ферму (Сергей Эйзенштейн в «Старом и новом»), не были лакировщиками – просто торопились перенести образцы в реальность, хотя бы экранную.
Дом на Гоголевском бульваре, возведённый по проекту ведущего теоретика конструктивизма Моисея Гинзбурга,– реальный образец коммунального жилища, одновременно освободившего человека от тягот индивидуального хозяйства и сохранившего ему личное пространство жизни. Это два самостоятельных корпуса, соединённые переходом: жилой, с изолированными двухэтажными квартирами и общественный, где находились столовая, кухня, механическая прачечная, ясли, детский сад, клуб. Плоская кровля была использована под теннисные корты, солярий, сад. Совсем как мечтал Велимир Хлебников: «Крыша станет главнее, и люди научатся летать». Первым жильцам этого коммунального рая действительно казалось, что они парят над бытом, наслаждаясь его удобствами, а, главное, свободой, особенно ценимой после жизни в коммуналках, «на людях». Дружеские застолья до утра, танцы всю ночь напролет, тайные любовные свидания – и без страха, что услышат соседи, «где надо» расскажут. В общем, архитекторы замахивались на роль режиссёров жизни, организаторов социального поведения человека. Но не всем нравилось это «соглашательство» нового со старым, коллективного с индивидуальным. Спорили. Яростно. Не стыдясь эстетических разоблачений и не жалея политических ярлыков. Так, зимой 1929—1930 годов проходила дискуссия о социалистическом городе между урбанистами и дезурбанистами. Первые считали, что строить нужно на фундаменте полностью обобществлённого быта типовые дома-коммуны с семи- и девятиметровыми комнатами-рекриапиями на каждого взрослого и отдельными блоками для детей, отнятых от родителей с того момента, как они перестают физиологически нуждаться в матери. Дома-коммуны собираются в соцгород (от 40 до 100 тысяч человек) вокруг градообразующего предприятия или совхоза. Конструктивист и урбанист Александр Веснин был сторонником усиления социальных контактов и во вне рабочее время, выступал за рациональные, коллективные формы досуга, отдыха. Дезурбанисты предлагали расселение семьями, в отдалении от производственной зоны, в собственных домах с гаражом, автомобилем. Социолог М. Охитович был за большую изоляцию человека вне производства, за свободу досуга, отдыха. Досталось и тем, и другим: урбанистам – за формализм, дезурбанистам – за буржуазный уклон. А строить стали по-сталински: сначала предприятия, а затем, исходя из их потребностей,– жилую зону в архитектурном стиле «барако» (от французского baroque – лёгкое строение для временного размещения), надолго ведущего стиля в СССР.
Архитектурная мысль 20-х не знала предела фантазии,– технократической, романтической, утопической. Город на рессорах, возвышающийся над транспортными развязками и коммуникациями. Летающий город на воздушных платформах. Город на колёсах, постоянно меняющий местоположение. Подвижный дом-каркас с выдвижными квартирами, способными отделиться и остановиться в любой точке движения. «Охота к перемене мест» жительства – дом, путешествующий по стране, быт, утративший оседлость, человек, отказывающийся от собственного жилья. Во всём архитекторы-авангардисты видели перспективы градостроительства, конструктивисты утверждали: «Дом – это машина для жилья», подвижная, сбросившая с себя лишнее, декоративное, отличающаяся функциональностью, новой красотой пропорций, ритма. Существовал проект превращения Москвы в зеленый город, гигантский парк культуры. Из него должны были вынести и равномерно распределить по всей стране государственные учреждения, промышленные предприятия, учебные заведения, жителей переселить в новые дома вдоль магистралей, а кого-то и в другие города. Москва, в которой больше ничего не строили, сохранила бы себя как уникальный исторический ансамбль, как центр культуры и туризма. Какая желанная, прекрасная утопия или проект XXI века?!
Нельзя перестроить, можно переименовать улицу, посёлок, город. 20-е – годы настоящей топонимической катастрофы. Названия менялись по 3—4 раза, одни и те же появлялись в разных республиках и областях. Возникали и исчезали Зиновьевск, Троцк, Пошехонье-Володарск, Ежово-Черкесск. С изменением географических названий, всегда наполненных природным, событийным, социальным смыслами, уничтожался памятник истории и культуры, город, посёлок, улица забывали себя. Существовал проект переименования Москвы как будущей столицы Всемирного Союза ССР в город Ленинск. Слава Богу, Москва устояла. Пал Петроград, сперва потерявший почти половину дореволюционных названий, а затем и имя собственное.
12 марта 1918 года Москва была объявлена столицей Республики, на следующий день после переезда сюда советского правительства. Причиной такой «охоты к перемене мест» одни называли опасное географическое положение Петрограда, близость к границе, другие – более беспокойную натуру этого города, как природную, так и социальную. Начиная с неустойчивости имени, которое он сменил трижды. Столица выбралась из «топи блат» на семь холмов, омылась чистыми водами многочисленных рек и родников, а, главное, вернулась на родную почву русской самобытности, православного миропонимания.
Москва стала героиней фильмов 20-х годов, в том числе обращенных к её современной действительности,– у неё появились свои кинолетописцы, свои кинопоэты. Уроженцы Белостока братья Кауфман увековечили Москву 20-х в документальных фильмах «Шагай, Совет!», «Москва», выпусках экранных журналов «Кино-календарь» и «Кино-правда». Лев Кулешов, родившийся в Тамбове, учившийся в Москве и начавший творческую жизнь в самой московской по духу кинофирме А. А. Ханжонкова, запечатлел полюбившийся город в фильмах «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» и «Ваша знакомая». Юрий Желябужский, петербуржец по рождению, правда, выросший в стенах Московского художественного театра, отдал дань городу в комедии «Папиросница от Моссельпрома», драмах «Человек родился» и «В город входить нельзя». Абрам Роом, уроженец Вильно, как театральный режиссёр состоявшийся в культурной столице Поволжья Саратове, создал подлинный шедевр кино о Москве и по-московски – «Третью Мещанскую», а до этого всё приглядывавшийся к ней сквозь увеличительное стекло жанра чёрной комедии в короткометражках «Что говорит «Мое», сей отгадайте вопрос» и «Гонка за самогонкой». И ни одного фильма о послереволюционной Москве не снял коренной москвич Яков Протазанов, постоянно из неё уезжавший снимать то в деревню, то в провинцию. Может быть, перестал узнавать взрастивший его любимый город? Зато поднявшийся рядом с ним режиссёр Борис Барнет, коренной москвич, хоть по отцовской линии европеец, из шотландского рода, в лирических бытовых комедиях «Девушка с коробкой» и «Дом на Трубной» предъявил тёплое, доброе, улыбчивое лицо малой своей Родины, дарившей ему героев, сюжеты. Австрийский критик, политэмигрант Вальтер Беньямин в «Московском дневнике», написанном по свежим впечатлениям его пребывания в Москве в 1926—1927 годах, удивительно почувствовал её душу «большой деревни»: «У её улиц есть одна странность – в них прячется русская деревня». В деревянных одноэтажных домиках с палисадниками, заросших травой дворах, скамейках у ворот, в особой манере общения жителей, в общинном духе – во всём продолжалась русская деревня, постоянно пополнявшая столицу людьми в лаптях и зипунах. Кто приехал купить мануфактуру или что-нибудь продать, другие – на заработки, а то и «за правдой» во властные учреждения.



