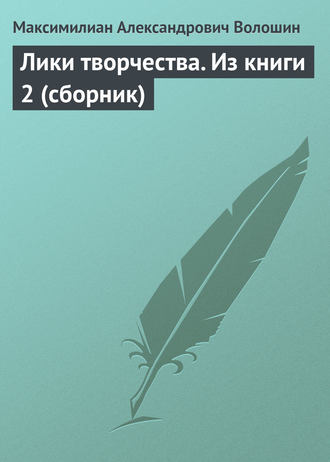 полная версия
полная версияЛики творчества. Из книги 2 (сборник)
Если эти слова справедливы вообще для русской культуры, то значение их возрастет во сто крат, если применить их к русскому искусству.
Но почему так: почему русский становится гораздо более русским тогда, когда он принимает старое европейское солнце в свою душу?
Подобно тому как человек, вступая в мир через двери рождения, повторяет ‹в› себе бессознательно и вкратце всю историю развития вселенной от кольцеобразных туманностей до психических переживаний имен и народов, выявляющихся в его детских играх, так и наше русское искусство в гигантских сокращениях и обобщениях повторяет историю европейского искусства и в этой таинственной игре кует уже свою индивидуальность ж произносит уже свои слова.
Версилов говорит о «высшем культурном типе», который создался в России: «нас может быть всего тысяча человек, может более, может менее, но вся Россия жила покалишь для того, чтобы произвести эту тысячу».
Но если мы станем говорить не о всей культуре, а об искусстве, то цифра эта еще сократится. Тех, кто в России несет в себе древнее солнце искусств, не тысяча и не сотня, а десяток.
Слова Достоевского как бы идут вразрез с очевидностью, с действительностью; русские, которых встречаем теперь в Европе, необразованные и дикие, они не ценят европейской старины, не любят старых камней, не умеют слиться с иными формами жизни, не проникают ни в душу, ни в быт Европы, в оценку исторических явлений вносят поверхностные критерии политического мгновения, а русские художники в их массе отвергают традиции, не ценят школ и вносят жгучесть анархии в ту область, где все строй и цельность и равновесие, и в то же время истина в том, что русская идея, та, о которой говорит Достоевский устами Версилова, сознает себя в десятке, а не в этих миллионах, в том десятке, который целует с трепетом «старые, чужие камни».
Александр Бенуа самый ценный и самый характерный представитель?того «десятка» в наши дни, как в своем искусстве, так и в своей критической деятельности. Он в нем то «солнечное сплетение», от которого расходится нервная дрожь.
Поучительно сравнить его с теми из западных живописцев, которые обрекли себя тем же эпохам, что он, – но своим, не чужим эпохам, например с самым проникновенным из художников исторического Версаля – Лобром.
С недосягаемой утонченностью письма проникает он во внутреннюю жизнь вещей и передает неуловимый трепет, случайное биение, взмахи пыльных крыл, живущих в старых залах с помутневшими зеркалами.
Здесь вскрывается глубокая разница исторического возраста искусства.
Бенуа никогда не достигает этого глубинного проникновения в жизнь вещей. Он из вещи создает эпоху во всей широте.
Лобр же не ищет передачи эпохи, он уходит в самую вещь, замыкается б вещи, и изнутри таинственный мир, затаившийся в ней, просветляет ее. Это культура, замкнувшаяся в формы. Форма здесь уже целиком облекла дух и сделалась его полным бесконечно пластическим выражением. Все стало клавишем, нотой, знаком, буквой, символом. Все сузилось и этим стало глубже, проникновеннее, утонченнее!
Бенуа дитя совсем иной эпохи уже по самой манере письма – широкой, гибкой и резкой. В то время как Лобр целые столетия прошлого вписывает в тонкие детали каких-нибудь бронзовых орнаментов, украшающих ножку стола, Бенуа из каждого перекрестка Версальского парка создает широкую историческую панораму.
Еще характернее будет сопоставление Александра Бенуа с Анри де Ренъе. Лобр может казаться слишком исключительным в своем пристрастии к залам Версаля и в своем таланте ясновидца вещей.
Но вот самый латинский по духу из всех современных французских поэтов, самый законченный по форме и зачарованный тою же эпохой, как и Бенуа, – итальянским и французским XVIII веком. XVIII век сквозит в каждом из романов А. де Ренье.
Когда читаешь его, то кажется, что смотришь на зеркальную прозрачность струистого ручья; на поверхности его текущих зеркал отражаются вершины деревьев, облака и небо, а сквозь них сквозит дно, камни и трава.
Так сквозь современность сквозит у Анри де Ренье старая Франция, и оба миража сливаются в легком, двойственном, текучем видении. И прошлое непрестанно сквозит через настоящее, улегчая и опрозрачивая его… В нашем искусстве этого еще почти не может быть. В нашей жизни еще нет магических зеркал, сквозь которые непрестанно и естественно сквозила бы старина. Когда Бенуа понадобилось в «Павильоне Армиды» дать эту двойственную прозрачность сна и действительности, то ему пришлось взять 30-е годы и уже их опрозрачить XVII веком. Между тем как для Анри де Ренье всегда есть выход в XVIII век из настоящей минуты.
Как дети в мудром таинстве игры бессознательно переживают тысячелетия человеческой истории, так русские художники невольно и почти бессознательно, одним творческим инстинктом увлекаемые к игре стилями и формами прошлых веков, обобщают и резюмируют столетие европейского искусства в широко охватывающих исторических панорамах.
Национальная русская способность «перевоплощения» сводится именно к этому таланту широких исторических обобщений, скорее даже сокращений. Обобщение, которое представляет для европейского ума один из наиболее трудных и ответственных актов, для нас является естественным, инстинктивным движением мысли, которое мы совершаем ежеминутно со всей дерзновенностью детского неведения.
Конечно, мы еще дети по отношению к той исторической задаче, которая возложена на нас. И в нашем искусстве вся переимчивость и вся самобытная гениальность детской игры.
Игра – это органическое переживание духа, поэтому, несмотря на всю эклектическую внешность его, наше искусство никогда не было эклектично.
Мы органически переживаем стиль начала XIX века в искусстве Сомова, Людовика XIV – в Бенуа, русские лубочные картинки – в Добужинском, архаическую Грецию – в Баксте, который, быть может, даже полнее и бездумнее других умеет отдаваться мудрой игре.
Законченный образец органического переживания целого исторического цикла национального искусства дает зала Головина (на выставке «Нового общества»), в которой собраны все его эскизы и рисунки для постановки «Кармен».
Каждый из этих беглых и ярких рисунков резюмирует в себе страницы испанской истории. В Испании искусство всегда имело дело с человеком во весь рост, уединенным, как колючий кактус среди серой пустыни. От Веласкеза до Зулоаги – всюду эта изолированность темной человеческой фигуры и темная полнота тонов, иногда разорванная обезумевшей яркостью тканей.
То, чего достиг Головин в своих быстро начерченных фигурах и тонах костюмов, не могло быть достигнуто сознательным усилием – это слишком широко, органично и обильно, чтобы быть сознательным. Он играл в мудрую, декоративную игру, и под его кистью прошли все основные психологические моменты испанской живописи.
Да, русский художник тем больше становится русским художником, чем больше сокровищ Запада несет он в своей душе, чем больше воплощается он во француза XVIII века, испанца XVI века или в итальянца – XV-го.
На каких россыпях Врубель – величайший из великих, не собрал своих сокровищ, и с какой демонической обольстительной щедростью сеял он их и раскидывал в своей гениальной игре. Даже в этих четырех холстах, извлеченных из пыльного хлама забытой мастерской, что висят на выставке нового искусства, сколько тысячелетий искусства можно прочесть в них.
Необъятно широк, громаден и разнообразен тот фундамент, на котором строится русское искусство. Он сложен из громадных монолитов самых драгоценных горных пород, из кристаллов, которые целые вечности росли в глубинах человеческих пещер.
Не потому ли так скучны, сухи и ограниченны, так «безрадостны» те живописцы, которые хотят быть русскими, не становясь европейцами. Какое уныние царствует во втором этаже «Союза», где висят А. Васнецов, Малютин, Кустодиев, Переплетчиков, Виноградов и др.
Они скучны и неинтересны, как дети, которые, позабыв «святые игрушки», начнут говорить о жизни и о реальностях ее. Пальма первенства в этой области принадлежит бесспорно Кустодиеву, с его «веселящимися пейзанами», «сознательными священниками», «купеческой инфантой» и хитреньким Городецким.
А стоит художнику, например такому скромному и уединенному художнику, как Яремич, подойти к «старым чужим камням» Версаля, и его краски, его рисунок приобретают глубокий, строгий тон и подобающую величавость стиля.
Этой яркой юности русского духа хочется противопоставить другой возраст искусства.
В «Новом обществе» среди нескольких портретистов-поляков выставлен автопортрет Слевинского: один из тех портретов, которые остаются в истории искусства и служат после смерти их авторов украшением Лувров и Эрмитажей. Этот портрет висит там как бы для того, чтобы оттенить истинный характер русского искусства.
Мы переживаем европейскую историю всею буйностью нашего непочатого будущего, и потому в прошлом мы улавливаем то изобилие, полноту и насыщенность, которая так бросается в глаза при сравнении Бенуа с Лобром. Совершенно иное чувствуется в польском искусстве. Здесь важно не столько различие национального духа, сколько иной исторический возраст.
Слевинский впитал в себя европейскую культуру не меньше, чем Бенуа или Сомов, но претворил ее не будущим, а всем скорбным прошлым своей национальной истории.
Как законченный кристалл, до краев полный темной мерцающей влагой скорби, этот портрет человека в желтой шляпе, на черно-синем фоне, написанный тремя-четырьмя до конца примиренными тонами. Он никогда не покинет нашего глаза и неотвратимо вспомнится в минуты самых грустных раздумий.
И радость о воплощенном осенит дух при этом воспоминании.
Выставка детских рисунков
Детям ли учиться у взрослых или взрослым у детей?
Тысячелетняя практика воспитания показывает, что взрослые не умеют толком ответить ни на один вопрос из тех, что задают им дети. Им нечему научить детей до тех пор, пока те сами не вырастут, то есть поглупеют до уровня взрослых.
Тогда и взрослые могут быть им полезны.
Взрослым же есть чему научиться от детей. Марсель Швоб глубоко верил, что взрослые придут наконец учиться к детям, придут учиться играть.
Искусство драгоценно лишь постольку, поскольку оно игра. Художники ведь это только дети, которые не разучились играть. Гении – это те, которые сумели не вырасти.
Все, что не игра, – то не искусство.
Почти в каждом произведении искусства золото игры смешано с оловянными и свинцовыми сплавами бездарных умствований взрослого человека.
На выставке детских рисунков – все чистое золото искусства.
Первое впечатление, когда входишь в эту комнату детских рисунков: прозрачные, светло-золотистые тона, какие-то бледные весенние стебельки, весеннее, жидкое солнце, полевые травы и цветочки.
Есть таинственная связь примитивов с весною. Все цветочные орнаменты; все растительные украшения соборов XIII века, и предметов, и картин того времени, все они составлены лишь из ранних – апрельских цветов и трав.
Позже, в XIV и XV веках, появляются в орнаментах летние растения. А Ренессанс – это уже тяжелая и обильная осень с гирляндами плодов и виноградных гроздий, с золотом созревших яблок, с пурпуром увядающих листьев.
Дети все видят в светлых тонах, не будучи импрессионистами.
Каждая деталь в их рисунке – символ. Все имеет значение. Правда, что мы не понимаем всего. Но ведь мы тупы, как все взрослые.
В. Э. Борисов-Мусатов
Есть художники, которые всю свою жизнь влюблены в одно лицо. Даже не в лицо, а в определенное выражение лица, которое волнует и тревожит их неотвратимо.
Этого выражения, этой черты, этого «изгиба пальца» (кажется, так говорит Дмитрий Карамазов) они ищут в разных лицах и безнадежно стремятся воплотить в своем искусстве.
Их волнует отнюдь не красота, т. е. не то, что всеми считается красотой, а особая некрасивость. Этой некрасивости посвящают они все свое творчество, украшают ее всеми сокровищами своего таланта, опрозрачивают, возводят ее на престол и силой своей любви создают из «некрасивости» новую Красоту.
В искусстве таких художников чувствуется особый волнующий трепет жизни. Так волнует только неистомный страстный порыв к осуществлению при полной безысходности устремлений, при полной невозможности окончательного воплощения чувства.
На циничном и тупом языке психиатров, милом полуобразованным интеллигентам, это явление называется «фетишизмом».
Боттичелли – классический пример такого художника, возведшего «некрасивость», его волновавшую, на престол мировой красоты.
Это есть и у Ван-Эйка, и у многих немецких, французских и итальянских примитивов.
Борисова-Мусатова я отношу к этой же группе чувственных, сантиментальных и волнующих художников.
Мусатов нашел свою «некрасивость» и был достаточно убедителен и талантлив, чтобы ему поверили. Он нашел свое лицо: и просветил, он освятил его.
В жизни он не нашел окончательного воплощения своего лица. Оно у него всегда раздваивается между двумя женскими лицами в жизни друг на друга не похожими, но почти сливающимися в одно лицо в его картинах. Все черты в них иные, но они – одно. Раздвоение это еще более усиливает грустную безысходность его искусства.
Все, что он ни творил, – все было лишь для прославления «некрасивости», его пронзившей. Это была очень русская, очень национальная некрасивость, и он украшал ее всем, чем мог, всем, что было ей к лицу, т. е. тем, что выделяло характер ее лица.
Конечно, он хорош как пейзажист. Но кто выделил бы его из тысяч хороших импрессионистов, если бы его пейзаж весь не был проникнут присутствием, близостью любимой им женщины, не был бы фоном для ее фигуры. Как бы ни казались иногда случайны фигуры на его пейзажах, – всегда пейзаж написан для них, а не они для пейзажа.
И помещичьи усадьбы, и запущенные сады, и беседки, и платья восемнадцатого века, и розовые облака – все это он писал лишь потому, что они украшали и определяли любимое им выражение лица, волновавшую его «некрасивость».
Потому-то в нем так много лиризма и единства. Потому-то в нем так много того, что есть в хороших, немного устарелых, очень сантиментальных и грустных романсах, которые с таким чувством поются в глухой русской провинции. Ведь он очень провинциален, и, быть может, это дает ему власть так наивно и смело подходить к нашему сердцу.
Врубель
Нечто общее есть между безумием Ницше и безумием Врубеля, в этом пребывании тела здесь на земле в то время, как гениальный дух уже покинул его, в этой страшной полусмерти, которая отмечает избранных. Точно дух переступил запретную грань и уже не мог вернуться в темницу тела.
Перед этими пятью незаконченными полотнами Врубеля, что висят на выставке «Нового общества», перед этими драгоценными холстами, извлеченными из сора мастерской, несколько раз приходилось слышать смех, гоготание и негодование на то, что «такую гадость принимают на выставку». Смеялись и негодовали каждый раз элегантно одетые госпола и светские дамы. Неужели же невежество петербургской публики простирается до того, что она ничего не знает о безумии и слепоте Врубеля, о трагедии, постигшей русское искусство? Разве не подобает перед этими полотнами такое же молчание, как в той комнате, где умер Пушкин?
* * *У Врубеля есть глубокое, органическое сродство духа с Лермонтовым. Его иллюстрации к Лермонтову не повторяют, а продолжают мысль поэта. Он шел по той дороге, которая на полпути оборвалась под ногами Лермонтова. Но и он не дошел по ней до конца. Его сродство с Лермонтовым в том выражении глаз, которое он ищет в лице «Демона», и в горьких. запекшихся губах. Врубель живописец одно-взгляда. Это страшно чувствуется на большом, незаконченном эскизе «Демона» на выставке «Нового общества», где закончены лишь одни глаза.
Врубель, как и Лермонтов, действительно понимал горы. В России Врубель единственный живописец гор. Я старался вспомнить, кто в живописи понял и воплотил горы. Не холмистую местность в характере Богаевского или Мэнара, а горы – вечные кристаллы земли.
И всплыло лишь два имени: Леонардо и Врубель.
У Леонардо на его фонах – эти иссиня-голубоватые полупрозрачные сталактиты скал, омытых потопом. Они разоблачают какие-то тайны земли и рождают смутные грезы о том прозрачном синем камне, из которого были построены города Атлантиды.
Горам Врубеля – лермонтовский стих: «Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял».
Его горы везде, как «грань алмаза», как кристаллы драгоценных камней.
Врубель всегда и во всем видел кристаллическое строение вещества: его ткани, его деревья, его лица, его фигуры – все кристаллично, все подчинено каким-то скрытым геометрическим законам, образующим и строящим материю.
Когда он пишет горы, он как бы снимает поверхностные покровы и обнажает сокровенную, сверкающую сущность земли.
Современные портретисты
Художественный сезон зимы 1910–1911 года выдвинул целый ряд интересных портретов. Пять портретов Сомова, семь портретов Серова, портреты Головина, Ульянова, Глаголевой, Малявина, Кустодиева, Сарьяна, Кончаловекого и Машкова – все интересные, характерные или поучительные – это очень много для итогов одного художественного сезона при общей бедности современной портретной живописи.
Органические пороки импрессионизма больше всего сказались в свое время на портретной живописи. Человеческое лицо импрессионистами понималось не изнутри, не с точки зрения личности, а трактовалось как «nature morte»: оно было предлогом для сложных цветных задач. Портреты Ван-Гога и Сезанна больше говорили о личных трагедиях художников, чем о людях, ими нарисованных. Этим удовлетвориться было нельзя, и душа тосковала по остроте характеристик Фуке, Клуэ и Гольбейна. Надо, чтобы портрет жил в себе отдельною, самостоятельною жизнью, чтобы художник, вложивший в него пафос своего понимания, исчез и не стоял бы между зрителем и лицом, живущим на полотне. Таких портретов в настоящее время нет в России. Но два художника приближаются к такому пониманию лица: Сомов и Головин.
Портреты Сомова, действительно, живут собственною, внутреннею жизнью. Законченность их – внешняя безукоризненность техники, создающая иллюзию как бы «из ничего», достигает того, что пуповина, связывающая изображенное лицо с художником, порывается. Художник стоит не между зрителем и картиной, а за портретом. В акварелях Сомова сохранятся для потомков документы о характерах нашей эпохи: о лице петербургского типа и петербургской культуры. В Петербурге, единственном из русских городов, уже начался процесс образования человеческих, масок, являющихся самозащитой личности в тесном и устоявшемся общественном строе. В Москве лица еще остаются обнаженными: если кое-где и начинаются эти образования, то они в самом начале: более крупные индивидуальности подчеркивают и группируют черты своего настоящего-лица, ища скорее выявляющего, чем прикрывающего личность. Лицо же петербуржца всегда прикрыто маской, не настолько податливой и гибкой, как маска парижанина, дающая иллюзию живого и почти наивного лица, но более холодной, неподвижной, официальной, а иногда причудливой. Сомов глубоко и верно чувствует петербургские маски. Но за маской на его портретах глядят острые глаза живого человека. Маску он не принимает за живое лицо, но настоящие лица живут для него под масками. Его убедительность и красота – в этом противоположении внешнего и внутреннего лика, слитых в портрете. Поэтому не все лица доступны Сомову. Теперь на «Мире искусства» нет ни одного неудачного портрета. Но я вспоминаю портреты Вячеслава Иванова и Александра Блока, сделанные Сомовым для «Золотого руна». В них он натолкнулся на лица более сложного типа, лишь случайно принявшие налет Петербурга, и получилось несоответствие между их подлинным ликом и сомовскими портретами, лишающее последние исторической ценности, которую имеют без исключения все портреты этого года. Любезная и успокоенная маска несколько близорукого, несколько слащавого человека, с профессорскими маститыми кудрями и с пенсне в руке, которую он понял как лицо Вяч. Иванова, действительно, есть у последнего в некоторые моменты общественных отношений, но эта маска случайна и вовсе не срослась с лицом. Пронзительную же остроту и змеиную обольстительность, которые составляют истинные черты этого лица, Сомов или не заметил, или не захотел увидать: оно за пределами петербургской культурной маски. То же повторилось, хотя не так резко, в портрете Ал. Блока. Лицо Блока само по себе – маска греческого бога. (Маска гипсовая, но не мраморная: здесь вся разница в материале, а не в чертах и пропорциях). Но это маска не культурная, а наложенная на его лицо от природы. Только глаза своею усталою тусклостью отражают Петербург. Этого характера противоречий Сомов, на мой взгляд, тоже не уловил. Зато лица Добужинского, Кузмина, Сологуба поняты им идеально. Здесь все ясно и точно разложено до самой глубины: плоть лица – это маска, принявшая в себя черты внешних обстоятельств их жизни, а глаза – взгляд – пламя внутреннего творческого «Я». Из-за холодно красивой и замкнутой маски глаза Добужинского глядят пристально и остро; за презрительной и импонирующей маской Сологуба пресыщенный, недобрый и анализирующий взгляд; за изысканно-культурной, тысячелетней маской Кузмина взгляд таинственно утомленный. Рядом с этими документами о культуре нашего времени большой портрет масляными красками Е. П. Носовой (последняя работа Сомова) является законченным типом заказного, официального портрета. Здесь другие задачи: художник не сам выбирает лицо для него интересное и понятное, а случайностью заказа должен остановиться на лице ему предложенном и в нем найти элементы своего искусства. Способность художественно выполнить заказ всегда является показателем художественного самообладания и строгой дисциплины в работе. Выполнить заказ может только мастер. Тот, кто не дошел до сознательного мастерства, неизбежно сорвется, потому что для него заказ – принуждение. Для мастера же в заказе нет принуждения, а только возможность выявить в себе те возможности, которые без этого могли бы остаться невыявленными. Портрет Е. П. Носовой – образец заказного портрета: я говорю не о деталях его – ни о платье, ни о кружевах, ни о руках, ни о шелковой подушке с синими полосами, которые выписаны с мастерской безразличностью, но о той внутренней жизни, которой одухотворен портрет, о выражении лица, неопределимом и непонятно точном. Сомов достиг того, чего мог только в глубине души пожелать заказчик, он отметил в этом портрете не человеческий тип, а ту индивидуальную красоту, которая затаена в его модели. В этом смысле «Портрет Е. П. Носовой» – одно из труднейших преодолений Сомова.
Портреты Серова представляют течение, обратное выраженному Сомовым. В то время как лица, изображенные Сомовым, живут в глубине самих себя, по ту сторону своего лица, собственною, сокровенною жизнью, персонажи Серова живут на поверхности своего лица и в движении своего жеста. Люди, написанные Серовым, характерны, и жесты их характерны, но они беспокойны. У Сомова жизнь неслышно горит в глубокой тишине души, а у Серова она выражается в действии. Серов ищет выразительного и трудного жеста для своего портрета: г-н Гиршман – вынимает карандаш из кармана, г-жа Гиршман – стоит перед своим туалетом, кн. Голицын держит себя за ус, С. А. Муромцев, взявшись рукой за край пюпитра, готовится начать речь, Бальмонт с цветком в петлице сюртука выгибается как геральдический ликорн: все они позируют перед зрителем. В то время как Сомов ищет тишину для своей модели, Серову необходимо дать ей беспокойную позу, в которой выявились бы черты личности. Для Сомова главное в человеке за его маской, Серов не знает различия между маской и лицом. Впрочем, последнее зависит и от того, что он пишет людей иного душевного склада, чем сомовские петербуржцы, людей с голыми лицами, психологически просто отражающими их душевный мир. Характерный жест может передать Гиршмана, кн. Голицына, Стасова, – но его нельзя найти ни для Кузмина, ни для Сологуба, ни для Добужинского. В этом оправдание Серова. Но все же портреты Серова не будут иметь той исторической важности документального свидетельства, как портреты Сомова.
Документальность же составляет главное достоинство портретов А. Я. Головина. К сожалению, в этом году в Москве был выставлен (в «Союзе») только один портрет его, мастерской и интересный в смысле техники, но мало психологический. Весь интерес его был сосредоточен на великолепно выписанном букете лиловых цветов, шелковой лиловой кофте, рефлексах сада в окне, а не в лице той дамы, которая на нем изображена. Головин, вечно занятый работами над оперными и балетными декорациями Мариинского театра, вынужденный постоянно творить в формах фантастических и декоративных, ищет в портретах своих отдыха от этих синтетических и отвлеченных форм искусства, ищет обновления и силы в самом наивном и четком реализме. Он требует от своих портретов ни декоративности, ни позы, а только сходства. Такого сходства, «чтобы казалось, что не один человек сидит, а два, и который из них нарисован, нельзя отличить». Когда он начинает портрет, то иногда он пишет сначала пиджак, воротничок, галстук, оставляя пустым место лица: «пиджак или воротничок труднее написать похожими, несущими в себе печать индивидуальности, чем лицо или руки». Иногда, написавши все лицо, он оставляет пустое место для глаз и заканчивает последними. Это те трудности, которые может себе позволить только виртуоз рисунка. Сознательная наивность и простота отношения к своей работе создают то, что в результате его портреты являются не менее ценными человеческими документами, чем портреты Сомова. Можно сказать так: Сомов продолжает и художественно заканчивает ту маску, которую выбрал себе человек, Головин же реалистичнее и с большей зрячестью подходит к лицу существующему; но и у того, и у другого настоящий человек смотрит из глубины. У Серова же нет этого разделения, и человек слит со своим лицом вполне, в его портретах не отмечено никаких психологических противоречий. Противоречий не отмечено и в портретах Кустодиева. Но Кустодиев стоит уже большою ступенью ниже. Его губит собственное мастерство. Он с одинаковой легкостью и внешней виртуозностью пишет кого угодно и в каких угодно манерах: человеческое лицо и вещь, ткань и цветы, пейзаж и жанр трактуются одинаково искусно и однообразно, при всем разнообразии доступных ему стилей. Это как бы роднит его с Бакстом – самым очаровательным хамелеоном русской живописи. Но Бакста можно поймать в те моменты, когда он становится сам собою и никем больше: это тогда, когда он создает балетные костюмы. Здесь он подымается до высочайших степеней индивидуальности. Кустодиев же, по-видимому, становится сам собою лишь тогда, когда пишет ситцы, кумачи, ярмарки – тканую пестроту русского мещанства. Этим отличается его хамелеонство от хамелеонства Бакста.









