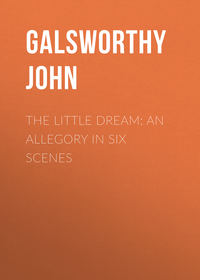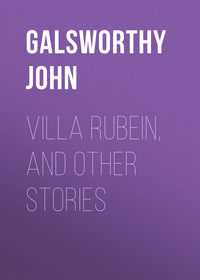Полная версия
Патриций
Леди Кастерли подняла бокал, до краев полный кроваво-красным вином.
– В войне наше спасение, – сказала она.
– Война не шутка.
– Она улучшила бы общее положение.
– Вы так думаете?
– Мы снова стали бы первой нацией в мире, а демократию отбросили бы назад на пятьдесят лет.
Лорд Вэллис машинально насыпал перед собою три кучки соли и так же машинально их пересчитал; потом пробормотал, иронически приподняв брови, словно ставя под сомнение собственную мысль:
– Я бы сказал, что по нынешним временам мы все демократы… Вы что, Клифтон?
– Шофер спрашивает, когда подать автомобиль?
– Сразу же после обеда.
Двадцать мотнут спустя он выезжал из чугунных, фигурного литья ворот на лондонскую дорогу. Смеркалось; вое новые облака разбредались по трепетному небу, казалось, сами не ведая куда. Видно, они обречены были скитаться без цели. Они столкнулись в небесах, точно стая гигантских птиц, и беспорядочно кружили, сходясь и вновь расходясь. Пахло сырой землей. Пыль прибило, и автомобиль быстро двигался сквозь сумрак, ощупывая фарами дорогу. На Пэтнейском мосту его задержала вереница фургонов. Лорд Вэллис огляделся по сторонам. Вода отражала тысячи огней: окна домов, громоздившихся по берегам, фонари набережных и стоявших на якоре барж. Змеящееся бледное тело реки, огромной, живой, от века спешащей к морю, не вызывало в его душе никаких образов. Много лет назад, когда он занимал высокий пост в министерстве торговли, он часто сталкивался с нею и хорошо ее изучил – бесстыдно грязную и всегда возмутительно худосочную как раз там, где ей нужно бы раздаться вширь. И все-таки, когда он закуривал сигару, странное чувство шевельнулось в нем – словно перед ним была нежно любимая женщина.
«Дай бог, – подумал лорд Вэдлис, – чтобы все эти страхи кончились ничем».
Потом автомобиль снова заскользил по забитой всевозможными экипажами дороге к фешенебельному центру Лондона.
Но заголовки вечерних газет, вывешенных на Щитах перед лавками, отнюдь не обнадеживали.
ЗАГОВОР УСЛОЖНЯЕТСЯНОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯПОЛОЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ УГРОЖАЮЩИМИ перед каждым щитом возникал маленький водоворот: прохожие, спеша узнать последние новости, взглядывали на заголовки, потом проталкивались назад и продолжали свой путь.
Оказывается, и ему, графу Вэллису, интересно, что они думают обо всем этом. Что же скрывается за этими бледными масками, обращенными к щитам? Думают ли они вообще, все эти простые, рядовые люди? Как относятся они к грозящей катастрофе? Одно лицо, другое, третье – тупые, безразличные, не выражающие ни желаний, ни тени воодушевления, ни даже страха. Бедняги! В конце концов что они могут поделать – не больше, чем муравьи, когда какой-нибудь мальчишка мимоходом разрушает их муравейник. Да что и говорить, голос народа никогда, в сущности, не решал, быть войне или не быть. И лорду Вэллису вспоминались слова из статьи в радикальном еженедельнике, который он, как человек беспристрастный, заставлял себя читать: «Не знающий фактов, загипнотизированный словами «Отечество» и «Патриотизм»; в тисках стадного инстинкта и врожденного предубеждения против иностранцев; беспомощный по милости своего терпения, стоицизма, преданности и привычки полагаться на вышестоящих; беспомощный по милости слепой веры в знать и недоверия к себе подобным, беспечности и отсутствия гражданственности, – как бессилен и жалок перед лицом» войны простой смертный!» Впрочем, эта газета, бесспорно, неглупая, всегда казалась ему невыносимо напыщенной.
Едва ли ему удастся попасть в этом году на скачки в Аскот… На мгновение мысли его перенеслись к Казетте, его подающей надежды двухлетке; но, словно устыдившись, он снова вернулся к мыслям о войне: хорошо бы знать, готовы ли в адмиралтействе к любым неожиданностям? Сам он занимал в правительстве более спокойную должность, одну из тех, которые предоставляются опытным, нужным в кабинете людям, если для них нет в данный момент более ответственного поста. От адмиралтейства мысль его перескочила к теще. Поразительная старуха! Вот из кого получился бы отменный государственный деятель! Но и ретроградка же! Как сразу всполошилась из-за этой миссис Ли Ноуэл! И с удовольствием знатока он припомнил лицо и фигуру этой женщины, которую видел сегодня утром, проезжая мимо ее коттеджа. Какие бы тайны ее ни окружали, а привлекательности у нее не отнимешь! Изящная головка, темные волнистые волосы, разделенные пробором, прелестная фигура ничего лишнего. Да, хороша. Без сомнения, у нее есть прошлое, но это его не касается. Жалко, в сущности, таких женщин.
Колонна пехотинцев, возвращавшаяся с учений, задержала его автомобиль. Лорд Вэллис подался вперед, разглядывая их сосредоточенным, пристальным, оценивающим взглядом, каким он смотрел бы на свору гончих. Смутных дум и размышлений как не бывало. Отличный подбор – эти лицом в грязь не ударят. Все они раскраснелись после дня на свежем воздухе и смотрели кто равнодушно, кто с веселой напускной самоуверенностью; их-то уж, во всяком случае, не терзают ни отвлеченные сомнения, ни призраки ужасов войны.
Кто-то закричал: «Ура!», – в воздухе заколыхались поднятые шляпы, послышался сначала слабый и неуверенный, а затем нарастающий громкий гул приветствий – и разом оборвался. «Довольно энергично! – подумал лорд Вэллис. – Им много не надо! Воинственности нам не занимать». И при этой мысли он снова ощутил живейшее удовольствие.
Солдаты прошли, и автомобиль медленно двинулся следом, прокладывая путь сквозь толпу, хлынувшую за ними. Тут были мужчины – молодые и старые, и совсем мальчишки, были и женщины и молоденькие девушки; все они лишь мельком взглядывали на него, словно этот благополучный господин был слишком далек от их жизни, чтобы пробудить в них хотя бы минутное любопытство.
Глава IV
В этот самый час в Монкленде, в небольшой гостиной крытого соломой выбеленного домика, беседовали, сидя по обе стороны камина, двое мужчин; между ними, откинувшись на спинку низкого кресла, сидела темноглазая женщина и молча слушала, то складывая кончики пальцев, то разнимая, так что они розовели, просвечивая над огнем. Время от времени в камине падало полено, показывая рдеющий бок; казалось, белые стены комнаты впитали в себя свет лампы и огонь камина и теперь сами источали тепло. Залетевшие из темного сада серебристые мотыльки, подрагивая, как запущенные волчком серебряные монетки, вились над светло-зеленой вазой с алыми розами; здесь, как всегда, уютно пахло дымком из камина, травой, цветущим шиповником.
Человеку, что сидел слева от камина, было лет сорок; выше среднего роста, крепкий, энергичный, он держался очень прямо; его подвижное лицо поминутно вспыхивало, голубые глаза блестели. Волосы у него были красно-рыжие, и в огненных, длиннейших, как у Дон Кихота, усах было что-то воинственное.
Человеку, сидевшему справа, было около тридцати. Высокий, гибкий и очень худой, он сидел, согнувшись в низком кресле, обхватив руками колено; в его смуглом, гладко выбритом лице с глубоко сидящими живыми глазами была своеобразная красота, губы трогала слабая принужденная улыбка.
На редкость несхожие, они поглядывали друг на друга, словно соседские псы, которые, давно убедившись, что лучше держаться друг от друга подальше, неожиданно встретились в таком месте, где никак нельзя затеять драку. А женщина наблюдала за ними, и хотя только один пес мог считаться своим, она, любя собак, готова была погладить и другого.
– Итак, мистер Куртье, – сказал тот, что помоложе; его сухой иронический тон, как и улыбка, казалось, служил защитой пылкой душе, что проглядывала в его взоре. – Все, что вы говорите, сводится просто к оправданию так называемого либерального духа; но, да простится мне моя прямота, дух этот, низведенный с высот философии и искусства в сферу практической деятельности, тотчас оказывается бессильным.
Рыжеусый рассмеялся; странно звучал этот смех – такой веселый и вместе с тем такой язвительный.
– Отлично сказано! Я и не собираюсь с вами спорить. Но так как вся соль политики – в компромиссе, первосвященники кастовости и власти, подобные вам, лорд Милтоун, столь же далеки от реальной политики, как любой либерал.
– Не согласен.
– Согласны вы или нет, но ваше отношение к жизни общества весьма похоже на отношение церкви к браку и разводу; церковь столь же далека от действительности, как и проповедники свободной любви, и столь же мало способна в ней разобраться. Ваша точка зрения обречена по самой своей сути она слишком нежизненная, слишком отвлеченная, чтобы вы могли понять истинное положение вещей. А не понимая, невозможно управлять. Уж лучше сидеть сложа руки, чем с вашими взглядами заниматься политикой!
– Боюсь, что мы с вами не найдем общего языка.
– Что ж, пожалуй, я требую от вас слишком многого. В конце концов вы ведь патриций.
– Вы говорите загадками, мистер Куртье.
Темноглазая женщина шевельнулась; руки ее слабо затрепетали, словно прося собеседников не враждовать.
Старший из них тотчас поднялся и почтительно сказал:
– Мы утомили миссис Ноуэл. Покойной ночи, Одри. Мне пора идти.
Дойдя до стеклянной двери, открытой в темный сад, он обернулся и сделал прощальный выпад:
– Я хотел сказать, лорд Милтоун, что вашему классу более чем кому-либо в Англии свойственна холодная расчетливость. Удивительно, что вы еще сохраняете способность мечтать. Покойной ночи!
Он вышел из комнаты и исчез в темноте.
Молодой человек не шелохнулся; пламя камина освещало его одухотворенное лицо, губы, рождало отблеск в глазах.
– Вы этому верите, миссис Ноуэл? – спросил он.
Вместо ответа Одри Ноуэл улыбнулась, встала и подошла к двери.
– А вот и мой милый лягушонок! Он навещает меня каждый вечер.
На каменном полу веранды, в потоке струившегося из комнаты света, сидел крохотный золотой лягушонок. Когда подошел Милтоун, он запрыгал в сторону и исчез.
– Как мирно у вас в саду! – сказал молодой человек; потом взял ее руку, нежно поднес к губам и так же, как и его противник, скрылся во тьме.
В саду и в самом деле царил глубокий покой. Ночь, казалось, вся обратилась в слух – все огни погашены, все сердца отдыхают. Глазами ясных звезд она заботливо глядела на каждое дерево, на каждую крышу, на сморенный усталостью цветок, точно мать, которая, склонясь над спящим младенцем, считает каждый его волосок и прислушивается к его дыханию.
Перед улыбкой этой ночи недавний спор казался бессмысленным, как детский лепет. И что-то от теплоты, от сладости этой ночи было в лице женщины, одиноко стоявшей у стеклянной двери. Чуткое, исполненное гармонии, оно не было холодным, как иные гармонически правильные лица, напротив трепетало, сияя глубоким внутренним светом, точно его осенил некий дух, нашедший наконец пристанище.
В бархатистой тьме сада с черными тенями тисов бодрствовали, казалось, только белые цветы, устремившие на Одри задумчивый взгляд. Деревья стояли темные, тихие. Ночные птицы – и те умолкли. Лишь ручеек в глубине сада подавал голос, обычно заглушаемый дневными шумами.
Одри Ноуэл всегда всем своим существом отзывалась на то, что ее окружало, она не умела быть равнодушной. Но в этот вечер она словно не замечала царившего вокруг покоя. Руки ее дрожали, щеки горели, грудь вздымалась, и вздохи слетали с полураскрытых губ.
Глава V
С тех пор, как Юстас Карадок, виконт Милтоун, начал постигать всю сложность бытия, он жил очень одиноко. В детстве единственным его другом был Клифтон, бабушкин дворецкий. Няни, гувернантки, наставники, по их собственному признанию, не понимали его, считая, что он чересчур серьезен и требователен к себе; доходило до того, что он не плакал и не жаловался, когда ему было больно, и это их даже слегка пугало. Почти все детство он провел в Рэйвеншеме, потому что леди Кастерли любила его больше всех своих внуков. Она угадывала в нем способность к самоограничению, которой не хватало ее дочери. Но одному только Клифтону, степенному пятидесятилетнему человеку с длинными черными бакенбардами, Юстас открывал свою душу.
– Я это вам рассказываю, Клифтон, потому, что вы мой друг, – говорил он обычно, сидя на буфете или на ручке большого кресла в комнате Клифтона или бродя с ним по малиннику.
И Клифтон, склонив голову набок, понимающе и с интересом слушал признания своего «друга», которые порой могли привести в замешательство, и время от времени вставлял: «Да, конечно, милорд», но чаще: «Да, конечно, милый».
Была в этой дружбе какая-то особая утонченная уважительность, ни один из «друзей» не позволял себе ни малейшей вольности; оба страстно любили голубей и могли часами с увлечением наблюдать за ними.
В должный срок, следуя семейной традиции, Юстас поступил в Хэрроусский колледж. Там он провел пять лет и все время оставался одним из тех малоинтересных, длинноруких и длинноногих подростков, что плетутся в одиночку к своему логову, приподняв одно плечо от привычки постоянно таскать что-нибудь под мышкой. Он не блистал в науках, нимало не считался с тем, что о нем подумают, притом у него был титул да еще злой язык, которого все боялись, – все это спасло его от репутации «книжного червяка»; он оставался просто гадким утенком, не желавшим слишком послушно плавать по тинистым прудам школьных традиций. В спортивных играх он был так неловок, что товарищи из чувства самосохранения предоставляли ему заниматься спортом в одиночестве. Только для крикета они делали исключение: в этой игре он преуспевал, так как махал своими длинными руками, точно ветряная мельница крыльями. Он увлекался также рискованными химическими опытами и вечно колдовал над какими-то колбами, поначалу тайком, а потом с разрешения надзирателя, полагавшего, что уж если в какой-нибудь из комнат пансиона нельзя обойтись без зловония, пусть его разводят в открытую. Юстас мало с кем дружил, но дружба его была надолго. Его латинские стихи были из рук вон плохи, а греческие и того хуже, так что все изумились, когда в последний год учения оказалось, что он прекрасно пишет и говорит на родном языке. С колледжем он расстался без всякого сожаления. Но когда поезд тронулся и древний Холм со знакомым шпилем на вершине стал исчезать вдали, он ощутил в горле ком, который никак не удавалось проглотить, и пришлось ему забиться в дальний угол купе и притвориться спящим.
В Оксфорде ему жилось не так тоскливо, хотя все-таки довольно одиноко; вначале, пока это было можно, он жил вне стен колледжа, а потом поселился в самом колледже, в уединенных, обшитых панелями комнатах под самой крышей, откуда видны были сады и кусок городской стены. Здесь, в Оксфорде, впервые зародилась столь характерная для него требовательность к себе. Он пристрастился к гребле, вошел в студенческую команду, и, хотя, по всему своему складу, мало для этого подходил, неизменно участвовал во всех гонках.
К концу состязаний он до того выбивался из сил, что даже не мог без посторонней помощи выйти из лодки, так как последнюю четверть пути держался одним только напряжением воли. Та же страсть к воспитанию воли руководила им при выборе факультета; он решил стать бакалавром искусств – весьма нелегкая задача при том, как плохо он владел греческим и латынью. С неимоверным трудом он все же получил эту степень, да еще с отличием. Сверх того он не раз удостаивался высших университетских наград за английские сочинения. В обычных студенческих развлечениях он не участвовал. За все годы учения его ни разу не видели под хмельком. Он не ездил на охоту, никогда не вел разговоров о женщинах, и при нем никто не решался на это. Но порою его словно подхватывало вихрем, как бывает лишь с натурами аскетическими, и вся жизнь внезапно обращалась в пламя; оно пожирало его день и ночь, а потом, будто сжалившись, стихало бог весть отчего, точно кто-то задул свечу. Хоть он и не был человеком общительным в обычном смысле этого слова, но в оксфордские годы его всегда окружали люди. У него был довольно широкий круг знакомств среди преподавателей и студентов старших курсов. Тех, кто способен отправиться в дальнюю прогулку ради удовольствия поболтать с приятелем, Юстас доводил до изнеможения своим стремительным шагом и решительным! нежеланием придерживаться какого-то определенного маршрута. Вся округа, от Абингдона до Бэблок-Хайт, хорошо его знала, хотя он не знал никого. Имя его произносили с уважением и в студенческом клубе, где он еще первокурсником отличился на диспуте о цензуре, необходимость которой отстаивал мрачно, упрямо и даже с каким-то юношеским пылом – и одержал бы победу, не встань тут некий ирландец и не заяви, что такая цензура ставит под угрозу даже Ветхий завет. На это Юстас возразил: «Лучше поставить барьер перед Ветхим заветом, чем совсем не будет никаких барьеров». Это принесло ему славу.
Он провел в Оксфорде четыре года и покинул его в растерянности, с ощущением утраты. Окончательное суждение Оксфорда о своем детище гласило: «Юстас Милтоун? Чудак! Но он еще себя покажет!»
Примерно в ту же пору у него произошел разговор с отцом, после которого каждый из них утвердился в своем мнении о другом. Разговор этот происходил в библиотеке усадьбы Монкленд в один из ноябрьских вечеров.
В библиотеке горели восемь свечей в тонких серебряных подсвечниках, по четыре с каждой стороны резного камина. Их мягкого сияния хватало лишь на небольшую часть погруженной во тьму просторной комнаты с панелями и паркетом черного дуба, уставленной книгами; здесь держался острый запах кожи и сухих розовых лепестков – щемящий аромат старины. Над огромным камином висел написанный неизвестным художником портрет того кардинала Карадока, который в шестнадцатом веке пострадал за веру; освещена была лишь половина его бритого лица. Изможденный аскет с запавшими глазами и едва уловимой усмешкой на губах, он, казалось, повелевал синеватыми языками пламени в камине.
И отцу и сыну нелегко было начать разговор.
У каждого было такое чувство, словно перед ним не родной отец или сын, а чей-то близкий родственник. В сущности, они встречались очень редко и не виделись уже довольно давно.
Первым заговорил лорд Вэллис: – Итак, мой милый, чем ты теперь намерен заняться? Я полагаю, мы сумеем провести тебя в парламент по нашему округу, если ты этого пожелаешь.
– Благодарю вас, – ответил Милтоун. – Об этом я пока не думаю.
Сквозь дымок сигары лорд Вэллис присматривался к длинной фигуре, утонувшей в кресле напротив.
– Почему же? – спросил он. – Чем раньше начать, тем лучше. Разве только ты хочешь отправиться вокруг света?
– Прежде чем утвердиться в свете?
Лорд Вэллис смущенно улыбнулся.
– Политика не требует специальной подготовки, всю эту премудрость можно превзойти мимоходом, – сказал он. – Сколько тебе лет?
– Двадцать четыре.
– Ты выглядишь старше. – Слабая морщинка прорезалась у него меж бровей: мерещится ему или в самом деле на губах Милтоуна змеится усмешка?
– Может быть, это и глупо, – произнесли эти губы, – но я считаю, что сперва следует изучить положение вещей. Чему я и намерен посвятить по меньшей мере пять лет.
Лорд Вэллис высоко поднял брови.
– Пустая трата времени, – сказал он. – Если ты войдешь в парламент сейчас же, ты через пять лет будешь все знать куда лучше. Ты слишком серьезно к этому относишься.
– Без сомнения.
Долгую минуту лорд Вэллис не находил ответа; он был несколько задет. Дождавшись, пока обида утихнет, он сказал:
– Что ж, мой милый, как тебе угодно.
Милтоун обучался профессии политика в трущобах; в имениях отца; изучая право; путешествуя по Германии, Америке и британским колониям; участвуя в предвыборных кампаниях; дважды он безуспешно пытался найти избирателей, которые не отступались бы от своих убеждений. Он много читал – медленно, но добросовестно и упорно: поэзию, историю, труды по философии, религии, социальным проблемам. К беллетристике, особенно иностранной, он был равнодушен. Больше всего он желал избежать узости и предвзятости и, однако, впитывал лишь то, что отвечало потребностям его натуры, бессознательно отвергая все, что могло как-то охладить жар его верований. Все, что он читал, лишь подкрепляло самые заветные его убеждения – плод его натуры. Презрение к мишурному блеску и пошлым забавам, которыми тешат себя богатство и знатность, соединялось у него со смиренной, но все растущей уверенностью в своей способности первенствовать, в своем духовном превосходстве над теми, чьему благу он желал служить. Бесспорно, у Милтоуна не было ничего общего с заурядными фарисеями, он был прост и прям; но его взгляд, жесты, весь его облик говорили о том, что есть в этом человеке некий тайный источник уверенности, колодец, глубин которого не потревожат никакие вспышки. Он был не лишен чувства юмора, но начисто лишен способности обратить это чувство на себя и подметить что-либо смешное в себе самом. Мир со всем, что в нем есть, представлялся Милтоуну в виде стрел, даже когда в действительности это были круги. Он словно не понимал, что вселенная в равной мере состоит из обоих этих символов, и никто еще пока не знает, как их примирить.
Таков он был к тому времени, когда член палаты общин от его родного округа был произведен в пэры.
Милтоун дожил до тридцати лет, но ни разу еще не был влюблен и жил в каком-то ожесточенном целомудрии, которому изменял лишь однажды. Женщины его боялись. И он, видимо, тоже их побаивался. В теории женщина была слишком прекрасной и манящей – словно молодой месяц в летнем небе; а в действительности оказывалась слишком слащавой или слишком грубой. Он был привязан к Барбаре, своей младшей сестренке, но мать, бабушка и старшая сестра Агата никогда не были ему близки. Забавно было видеть леди Вэллис рядом с ее первенцем. Ее осанистая фигура, цветущее лицо, серо-голубые глаза, в которых вдруг вспыхивали искорки озорного смеха, – все это в присутствии Милтоуна начинало казаться нелепым и неестественным. Наделенная отменным здоровьем и величайшей непосредственностью, она привыкла говорить все, что придет в голову, и не чужда была мыслей и выражений почти рискованных. Никогда, даже в раннем детстве, Милтоун не баловал ее своим доверием. Она не сердилась на него за это: такие душевно и физически крупные, щедро одаренные природой люди редко огорчаются и редко чувствуют себя униженными в чьих бы то ни было глазах, даже в своих собственных; с людьми же из касты леди Вэллис этого не бывает никогда. Милтоун – странный мальчик и всегда был странный, только и всего! Но, вероятно, ничто так не смущало леди Вэллис, как его неумение держать себя с. женщинами. Оно казалось ей противоестественным, так же как иные, должным образом замаскированные поступки мужа и младшего сына были, на ее взгляд, вполне естественны. Именно это чувство помогло ей, вечно погруженной в водоворот политики и светской жизни, с неожиданной ясностью понять, чем грозит Юстасу дружба с женщиной, осторожно упомянутой в письме под именем Незнакомки.
Дружба эта завязалась совершенно случайно. В декабре один из арендаторов упал с лошади и разбился насмерть; зайдя вечером на его ферму, Милтоун застал вдову, обезумевшую от горя, еле прикрытого сдержанностью человека, который почти потерял способность выразить то, что чувствует, и окончательно потерял ее в присутствии «господ». Милтоун уверил несчастную, что никто ее на улицу не выгонит, и, выходя, столкнулся на каменном крыльце с женщиной в меховом жакете и меховой шапочке; она держала на руках плачущего малыша с рассеченным до крови лбом. Милтоун взял у нее мальчика, отнес в комнату – и тут, подняв глаза, увидел прелестное лицо, полное печали и нежности. Он спросил ее, надо ли сказать матери. Она покачала головой:
– Не будем тревожить бедняжку; сначала займемся ребенком.
Они вместе промыли и перевязали рану. Потом она поглядела на Милтоуна, словно говоря:
«А теперь скажите ей, у вас это выйдет лучше».
Он сказал матери о случившемся, и незнакомка вознаградила его мимолетной улыбкой.
Он запомнил ее имя – Одри Ли Ноуэл, и прекрасное лицо под беличьей шапочкой все стояло у него перед глазами. Через несколько дней, проходя деревенским выгоном, он увидел, как она открывает калитку сада. Воспользовавшись случаем, он спросил, не нужно ли перекрыть крышу ее домика; последовал осмотр крыши и завязался разговор, который он не спешил окончить. Для Милтоуна, привыкшего лишь к женщинам своего круга, где даже лучших, при всем их такте и непринужденности, лишенной всякого жеманства, великосветская жизнь приучила к чрезмерной самоуверенности, в кроткой темноглазой миссис Ноуэл, живущей, видимо, вдали от света, в ее робкой прелести таилось невыразимое очарование. Так из зернышка случайной встречи быстро расцвела та редкая между замкнутыми людьми дружба, которая почти сразу заполняет их жизнь.
Однажды она спросила:
– Вероятно, вы обо мне знаете?
Милтоун кивнул. В самом деле, ему рассказывал о ней приходский священник:
– Да, я слышал, невеселая у нее судьба… развод.