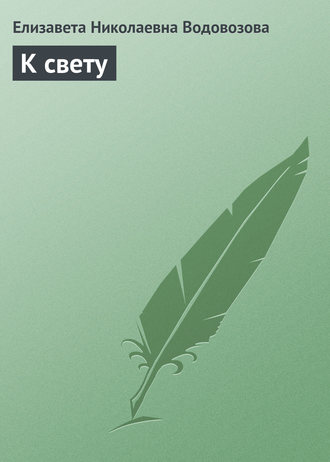 полная версия
полная версияК свету
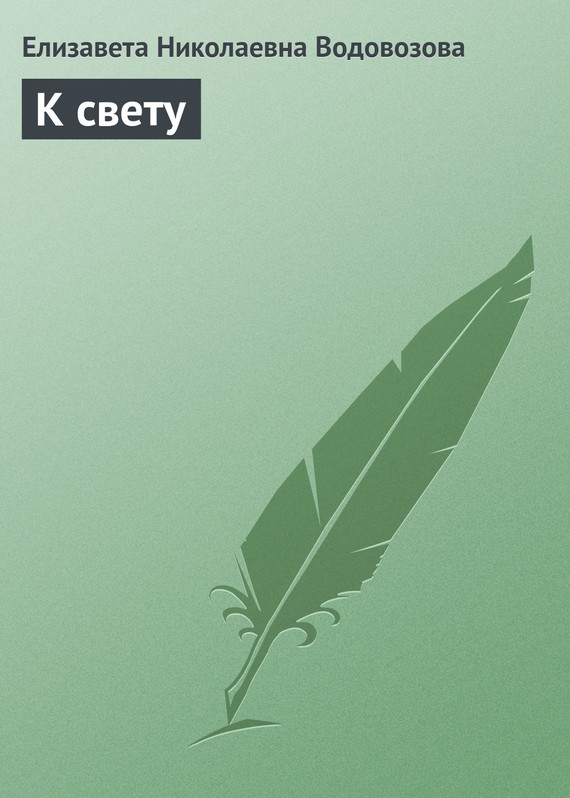
Елизавета Водовозова
К свету
Из жизни людей шестидесятых годов
I
Как-то осенью, в первой половине шестидесятых годов, в мою квартиру позвонили. Когда я открыла дверь, на пороге передо мной стояла молодая, красивая девушка с нежным, здоровым румянцем на щеках, с густыми каштановыми волнистыми волосами, с темно-карими глазами. Эта была моя подруга по институту, Антонина Николаевна Садовская[1]. Только что мы успели расцеловаться, как кто-то опять дернул за колокольчик. Оказалось, что два дворника втаскивали ее чемоданы, узлы и картонки. Чрезвычайно смущаясь, густо краснея и помогая расставлять свои вещи, Тоня конфузливо бросала мне:
– Представь! Ведь я наконец совсем удрала от своих старух! Бога ради, не сердись на меня! Я так бесцеремонно нагрянула к тебе… Даже не предупредила. Мне ведь больше некуда деваться! Позволь провести у тебя хотя сутки. А завтра мы вместе поищем для меня какое-нибудь пристанище.
Хотя разрыв молодого поколения со старым был самою характерною чертою шестидесятых годов и мне то и дело приходилось быть свидетельницею того, как молодежь обоего пола уходила из-под родительского крова даже там, где детей страстно любили и где они, в свою очередь, были привязаны к родному гнезду, но все же я была чрезвычайно поражена «бегством» Тони, – так оно мало соответствовало ее характеру.
Историю ее дошкольной жизни мне отчасти рассказывала она сама, но еще лучше я познакомилась с нею из писем ее опекуна. Она лишилась матери в самом раннем детстве. Ее отец был учителем математики в одном из учебных заведений Воронежа. Оставшись вдовцом с двухлетним ребенком на руках и имея в городе свой собственный деревянный дом, Садовский прежде всего переселил к себе своего закадычного друга еще по университету, холостяка Муравского, учителя литературы в том же заведении, в котором служил и сам Садовский. Оба приятеля страстно привязались к маленькой девочке, оба чрезвычайно любили возиться с нею, внимательно следили за ее воспитанием, а через несколько лет Муравский занимался ею еще более, чем родной отец, который хворал очень часто и подолгу.
В то время знание иностранных языков считалось первым условием хорошего воспитания и воспитатели Тони нанимали для нее иностранок, а когда пришло время учить, сами стали ее учителями.
Садовский умер, когда его дочери было лет шесть. Он оставил завещание, по которому опекуном дочери, полным распорядителем ее судьбы и имущества был назначен крестный отец Тони, Муравский. Умирая, Садовский просил своего друга вести воспитание Тони в таком же духе, как оно было поставлено при нем, и тратить на него пятитысячный капитал, который он оставил в его распоряжение; когда же девочке исполнится девять лет, Муравский должен был определить ее в институт, даже если она не попадет в него по баллотировке. В таком случае ему предписывалось продать дом и вырученные деньги вносить за ее воспитание.
Опекун исполнил более чем добросовестно желание своего приятеля. Он не тронул капитала Тони, а домашнее воспитание давал ей на собственные средства, заработанные им самим, присоединяя к этому и проценты с ее небольшого капитала. Когда девочке исполнилось девять лет, он отправился с нею в Петербург. Не желая лишать свою крестницу родственных привязанностей и заранее скорбя о том, что в институте ее ждет одиночество, если ее никто не будет навещать, он поехал познакомиться с ее родными тетками, сестрами матери Тони, двумя престарелыми девицами Алтаевыми. Сестры не могли пробудить в нем симпатии авторитетным, наставительным тоном и высказываемыми ими сентенциями в духе Домостроя. Очень огорчили они его и тем, что не проявили никаких родственных чувств к своей племяннице. Они заявили опекуну, что девушка только и может проникнуться правилами нравственности при воспитании в монастырской школе. Если Муравский последует их совету, они возьмут племянницу на свое попечение и судьба ее впоследствии будет вполне обеспечена. Принуждать ее сделаться монахинею они не намерены, но если она сама почувствует призвание к монашеской жизни, она навсегда поступит в монастырь, а не пожелает – будет жить с ними, с своими родными тетками. Получив воспитание в монастырской школе, девушка, по их мнению, избежит житейского соблазна, и они, ее тетки, уже позаботятся о ее дальнейшей судьбе. Опекун отказался от этого предложения, ссылаясь на свое обещание, данное умершему другу, определить сироту в институт.
– В таком случае мы умываем руки, – отвечали старые девы, холодно распростились с ним и с своею племянницею. На просьбу Муравского посещать девочку в институте они отвечали неопределенно, и за все время воспитания Тони ни разу не поинтересовались ею, не ответили даже ни на одно из ее поздравительных писем, которые она, по требованию крестного, писала им в первые годы своей институтской жизни, ни разу не навестили ее и никого не присылали к ней. Только Муравский летом, раз в два года, когда он освобождался от учительских обязанностей, на две, на три недели приезжал в Петербург. Тогда он аккуратно являлся в приемные дни к своей крестнице.
В противоположность громадному большинству экспансивных институток, Тоня была если не скрытною, то весьма замкнутою особою и совершенно индифферентно относилась ко всем окружающим, как к властям предержащим, так и к товаркам. Она ни с кем особенно не сближалась, никому не выказывала ни привязанности, ни антипатии. Классным дамам она не грубила, но не была у них и в фаворе: они скорее недолюбливали ее, так как она, по институтской терминологии, не подлизывалась к ним и не дружила с теми из подруг, которые пользовались их благосклонностью. Причиною нерасположения начальства к девочке, со всеми вежливой, было также и ее упрямство. Когда ее наказывали (в младшем классе института наказания сыпались на головы воспитанниц как из рога изобилия), не было той силы, которая могла бы принудить ее попросить прощения. Это ставило в крайне неловкое положение классных Дам. Инстинкты влекли Тоню скорее к порядочным, чем к дурным подругам, которых она сторонилась, но делала она это для них менее оскорбительно, чем кто бы то ни было из нас, выказывавших им всегда ненависть, презрение и выкидывавших относительно их злые проделки. Не будучи ни с кем из подруг ни в особенно дружелюбных, ни во враждебных отношениях, Тоня относительно товарок никогда не заклеймила себя ни предательством, ни малейшим двусмысленным поступком с точки зрения школьной этики.
Когда в институте начались реформы знаменитого Ушинского и большая часть взрослых воспитанниц жадно набросилась на чтение, она тоже почитывала, но без особого увлечения, ни с кем не делясь своими мыслями насчет прочитанного. Однажды, уже незадолго до нашего выпуска из института, увидав ее за чтением произведения одного из классиков, я спросила ее: «Неужели и оно не растопит ее, „нашу ледяную глыбу“», – это было прозвище, которое мы дали Тоне. Она подняла голову от книги и с минуту смотрела на меня молча.
– А ты приходишь от всего или в восторг, или в отчаяние, кого-нибудь ненавидишь и проклинаешь или превозносишь до небес. Всегда бурлишь, всегда кипишь! Объясни мне, как ты вся не выкипишь!
Тоня вообще очень редко высказывала свои мысли и мнения, никогда не говорила о своем желании начать после выхода из института самостоятельную трудовую жизнь, о чем мы и вслух и про себя горячо мечтали с тех пор, как в наших стенах, замуравленных от всего живого, появился Ушинский с приглашенными им новыми учителями. Тем не менее она была очень неглупою девушкой; такою ее считали учителя и мы, ее подруги, судя по ее? ответам и сочинениям.
– А мне было бы очень интересно знать, – сказала я ей вместо ответа, – если бы ты хотя раз искренно назвала мне причину, которая заставляет тебя ко всему и ко всем относиться так безразлично холодно? Почему ты никого не? любишь? Как это выходит так, что решительно ничто не волнует тебя, ничто не трогает?
– Ты очень ошибаешься. Меня трогает, но только один человек в мире – мой крестный. Он один меня любит, только он один на свете интересуется мною, и я одного его люблю. А здесь для меня решительно всё и все безразличны. Ты в таком восторге от теперешнего преподавания и возможности чтения хороших произведений… Да, конечно, наша институтская жизнь теперь интересней прежнего. Но я ведь не из воспламеняющихся: вероятно, нужен огромный костер или горячее солнце, чтобы растопить такую «ледяную глыбу», как я.
Она доказала впоследствии, что правильно охарактеризовала себя в то время. Ее индифферентизм долго поддерживался отчасти природного холодностью ее темперамента и какою-то преждевременною рассудительностью, но также и запоздалым физическим развитием, при котором кровь спокойно переливается в жилах, организм не получил еще толчка, мозг не начинал работать над разрешением жизненных проблем, а сердце молчит.
По окончании институтского образования Тоня решила остаться пепиньеркой, то есть пройти специальный педагогический класс в том же институте. Молодые девушки этого класса имели уже право выезжать в известные дни. И вот в это-то время Тоня иногда посещала мой дом, изредка театр, но чаще всего оставалась в институте, не пользуясь даже своими свободными днями. Ни разу не была она и у теток, – так оскорбило ее их невнимание к ней.
Хотя во время ее двухлетнего пребывания в специальном классе мой дом был единственным, который Тоня изредка посещала, хотя она с большею сердечностью относилась ко мне, чем прежде, но я не считала ее особенно близкою для себя, и прежде всего потому, что мы совершенно расходились с нею во взглядах на многие вопросы, чрезвычайно дорогие для меня. Прожив наиболее острый период зари нашего обновления в институте и оставляя его только иногда, и то на несколько часов, она, конечно, не могла бы даже и при желании броситься в водоворот кипучей жизни шестидесятых годов. Но у нее и не могло быть подобного стремления: далеко не все идеи того времени были ей по душе, а к опрощению жизни, ко многим обычаям, нравам и одежде нигилистов она относилась с более горячим порицанием, чем это даже свойственно было ее натуре. Она считала всенеобходимым для девушки хорошие манеры и красивую одежду. Сама она имела вид светской барышни, прекрасно воспитанной и одетой хотя очень просто, но всегда изящно и с большим вкусом. При этом она постоянно высказывала сожаление, что ее ограниченные материальные средства не дозволяют ей гораздо больше тратить на свой туалет, а у меня и у людей мне близких задачи и стремления были совсем иного характера.
Раз она встретила у меня прехорошенькую молодую девушку с обстриженными волосами и в гладком черном платье, не украшенном никакою отделкой.
– А, это, значит, тоже нигилистка? – заговорила Тоня, когда гостья ушла. – Надела на себя монашеское облачение, по-мальчишески остригла волосы и воображает, что она героиня!
– Она и есть настоящая героиня! Исключительно своим трудом – уроками музыки и языков, разрисовкой красками вееров и экранов – она содержит больную мать, двух маленьких племянниц и себя. Мало того, она еще умудряется давать два даровых урока в неделю в той школе, где я преподаю.
– Не умалила бы своих добродетелей, если бы немного расцветила свой монашеский туалет хотя бы каким-нибудь цветным бантиком: ведь цена ленты какой-нибудь четвертак.
– Вероятно, и четвертак для нее большой расчет. Ей, с утра до ночи занятой серьезной работой и заботой, некогда думать об украшениях. Мне кажется, только тот заслуживает порицания за свою более чем скромную одежду, кто прибегает к опрощению исключительно для выставки своих прогрессивных идей, во всех же других случаях это не минус, а плюс.
Когда Тоня увидала меня в первый раз после того как я отрезала свою косу, она посмотрела на это с не меньшим ужасом, как если бы я собственными руками отрезала себе уши или нос.
– Как могла ты, как решилась обезобразить себя? Ты представлялась мне всегда самостоятельным человеком, и вдруг рабски следуешь этой уродливой нигилистической моде!
Я ей указывала на то, что мои из ряду вон густые и непослушные волосы не только заставляли меня тратить на них много времени, но я так-таки и не научилась самостоятельно причесываться, всегда имела растрепанный вид, что меня страшно смущало. Но мои оправдания казались ей плохо мотивированными, и она находила мой поступок крайне глупым и унизительным для женского достоинства. Это не мешало ей с добротою и превеликим вниманием заботиться о моем туалете: она доставала мои платья из шкапов и старалась, если только была возможность, украсить их какими-нибудь кружевцами, бантиками или ленточками, и когда я не мешала ей это делать, она более снисходительно относилась, как она называла, к моим «нигилистическим замашкам и повадкам».
Когда Тоня кончила педагогический курс в институте, к ней приехал ее опекун и она объявила ему, что не желает более с ним расставаться, просила его увезти ее с собою в Воронеж и найти ей уроки в каком-нибудь учебном заведении этого города. Хотя он сам желал поселиться с обожаемою им крестницею, но боялся, что это сожительство вдвоем с молодою девушкою может повредить ее репутации; он чистосердечно высказал ей это, а также что он находится в большом затруднении, куда ему деть ее, так как она не желала гувернантствовать, дозволить же ей жить одной в Петербурге он считает опасным. Преследуемый этою заботою, он известил Алтаевых, что желает показать им их родную племянницу, уже взрослую девушку. Он неожиданно получил от них весьма любезное приглашение и вместе с крестницею был принят чрезвычайно радушно. Тетки упросили племянницу погостить у них несколько дней.
Когда по их просьбе Тоня написала несколько деловых писем и исполнила кое-какие поручения, они стали уговаривать ее совсем остаться жить у них. Они уже немощные старухи; жаловались они, что часто похварывают, что зрение у них слабеет, – вот Тоня и была бы их помощницею, заботилась бы о них во время их частых болезней, иногда почитала бы им кое-что, съездила бы кое-куда по их делам, – ведь такой труд не обременителен. А им так хотелось бы иметь в своем доме близкого человека: им невозможно обходиться теперь без чужой помощи. Пробовали они для этого брать молодых девушек, но все они оказывались «вертихвостками и никчемными». Нечего и говорить, добавляли они, что родные тетки не обидят свою племянницу и сироту: она будет у них вполне обеспечена, может выбрать для себя комнату, а если пожелает, то две и три, – ведь квартира у них в собственном доме, и весьма просторная.
Опекуну старухи сепаратно говорили о том, что если они поладят с племянницею, то она после их смерти получит половину их состояния, а другую половину они завещают на благотворительные дела и на помин души. Муравскому же, вследствие случайного знакомства с доверенным по их делам, только что сделалось известным, что у Алтаевых огромное состояние: под Москвою большое поместье, в государственном банке солидный капитал на хранении и собственный дом на Сергиевской. Доверенный по их делам не скрыл от Муравского и того, что обе сестры – большие ханжи и порядочные скряги. Да и сам Муравский хотя не знал их близко, но только по тому, что он видел и слышал, не обманывал ни себя, ни Тоню, что ее жизнь у старых дев не может быть особенно привлекательною для молодой девушки. Однако уверенность в том, что красивая, умная и рассудительная Тоня в конце концов непременно покорит сердца своих теток и пробудит в них запоздалую материнскую любовь, а также надежда, что она впоследствии будет богатою наследницею, настолько соблазнили Муравского, что он уговорил крестницу остаться у теток, не спросив их даже о том, будут ли они что-нибудь давать на ее туалет и карманные расходы.
Жизнь Тони у Алтаевых оказалась несравненно более неприятною, чем предполагали она сама и ее опекун. На нее сразу взвалили массу поручений, хлопот и дел, для исполнения которых ей то и дело приходилось разъезжать по всему Петербургу. Каждую свободную минуту она должна была читать теткам жития святых, писать письма под диктовку или самостоятельно набрасывать их, а также подсчитывать расходы и доходы по имению и дому. Старухи точно боялись оставить Тоню без дела хотя на минуту. Они наперед говорили ей: сделаешь это, начинай то-то. Когда изредка все было исполнено и казалось, что Тоня может отправиться в свою комнату, старухи просили ее вышить «хотя маленький букетик» по канве ковра, который они по обету должны были преподнести в ту или другую церковь. Каждое воскресенье, каждый большой праздник и накануне их она должна была сопровождать теток в церковь. По воскресеньям старухи давали обед знакомым духовным лицам, и такой день приносил Тоне особенно много хлопот.
Все это терпела скрепя сердце молодая девушка, но ее совершенно выводило из себя требование теток, чтобы она, исполняя свою обязанность разливать чай, все время присутствовала при беседах с ними монахов и монахинь, каких-то подозрительных проходимцев под видом странников и странниц с Афона и сборщиков на построение храма, которые то и дело заходили к ним по вечерам. Старухи с интересом слушали их россказни о чудотворных иконах и о странствиях по святым местам и находили их очень назидательными для такой молодой девушки, как Тоня.
Через несколько месяцев жизни у теток Тоня, одурев от постылой жизни, просила их разрешить ей съездить в театр, но они резко отказали ей, объясняя свой отказ тем, что при поступлении к ним она не предупредила их о своей любви к театральным зрелищам, которые, по их мнению, могут только погубить нравственность девушки; к тому же им и не с кем отпускать ее, а такой девушке, как она, неприлично выезжать одной. На ее возражение, что она целыми днями разъезжает одна по их поручениям, они отвечали, что это совсем другое, – тогда каждый видит, что она занята своим делом, а в театре мужчины, возбужденные безнравственными современными пьесами, только и думают о том, как бы прицепиться к девушке и наговорить ей всяких пошлых комплиментов.
Тоня написала крестному, что жизнь у теток для нее несравненно тяжелее той, которую она вела в педагогическом классе института: тогда она, хотя изредка, могла выезжать в театр и куда ей хотелось. Крестный думал, что тетки будут наряжать ее, как куколку, а они то и дело упрекают ее за ее туалеты, слишком элегантные для сироты и бедной девушки. Скупы они до невероятности: для ничтожной поправки в доме они рассылают дворников во все концы города, чтобы найти столяра или слесаря на гривенник дешевле. С поваром каждый день происходит баталия за дорого заплаченную морковь или репу. Она не получает ни копейки вознаграждения за свой беспокойный труд, а между тем ей необходимы деньги, чтобы покупать себе то башмаки, то перчатки. Они не дозволяют ей помимо своих поручений никуда выезжать; она так завалена их делами, что даже не имеет возможности что-нибудь прочесть для себя.
Это письмо привело в негодование Муравского: он не щадил собственных средств, чтобы только не трогать маленький капитал своей крестницы, а теперь он должен высылать по крайней мере рублей двадцать пять на ее карманные расходы. Поразило его и то, что она ведет такую подневольную, замкнутую жизнь. Он требовал, чтобы Тоня немедленно выговорила для себя определенное время для выезда и для своего собственного чтения, чтобы она прямо и смело заявила им, что он, ее опекун, немедленно возьмет ее к себе и найдет ей уроки на сорок – пятьдесят рублей в месяц, и даже в таком случае она будет занята не более как до пяти-шести часов вечера. Он думает, писал он, что этих угроз достаточно будет для того, чтобы привести старух в христианскую веру, что эти ханжи и скряги побоятся лишиться в ее лице даровой компаньонки-экономки. Но тем не менее он просил Тоню, если только у нее хватит терпения, не порывать с ними окончательно: «Твои тетки обещали мне обеспечить тебя в будущем, а я могу так мало сделать для тебя!»
Как-то вечером Алтаевы, не дождавшись посещения любимого монаха Варсонофия, обещавшего к ним зайти, позвали к себе Тоню для чтения. Она отвечала, что явится через несколько минут, наскоро оделась, вошла к ним в пальто и шляпе и заявила, что ей сегодня некогда читать, – она решила посетить подругу и ночевать у нее.
Алтаевы были так поражены этим решительным заявлением, что даже растерялись в первую минуту. Но когда дар слова к ним вернулся, то одна, то другая из них начала выкрикивать:
– Как ты смеешь так разговаривать с нами? Мы не знаем твоей подруги! Ты не можешь нас так опозорить!
– Если вы находите мое поведение предосудительным, вы можете сказать мне об этом завтра. В таком случае я немедленно телеграфирую опекуну, чтобы он приехал за мною, и поселюсь у него. Кстати, теперь рождественские праздники, и он свободен от занятий.
Она повернулась, чтобы уйти, а вслед ей старухи продолжали кричать:
– Как? Ты собираешься поселиться с холостым человеком? Да от тебя отвернется решительно все общество!
Когда Тоня после полугода жизни у Алтаевых в первый раз приехала к нам, я нашла ее похудевшею и побледневшею.
II
Тоня, будучи в педагогическом классе, посещала нас только по воскресеньям, да и то крайне редко. В первый раз она приехала к нам на журфикс во вторник, как раз в такое время, когда у нас, благодаря праздникам, должно было собраться особенно многолюдное общество.
И вот через час-другой все наши комнаты были переполнены преимущественно молодежью обоего пола, был кое-кто и из литераторов, а также и наш бывший инспектор в Смольном монастыре К. Д. Ушинский, знакомые дамы и между ними несколько моих подруг. Сели за чайный стол: собравшиеся мало-помалу все более оживлялись. Здесь и там сообщали новости городские и провинциальные, послышались смех, остроты, шутки, спор. Наконец гости сами бросились выносить в кухню самовар и посуду, сдвигали стулья и столы в комнату подле, и таким образом выгадывалось более места. Раздалось дружное хоровое пение. Выступали и солисты, и куплетисты, и импровизаторы, произносившие речи, в комическом виде изображая некоторые события из современной действительности, или стихи экспромтом, правда нередко сочиненные заранее. Но когда начались танцы, тут уже веселье достигло своего апогея. Танцы играли на фортепьяно два студента в четыре руки, а подле них сгруппировались аккомпаниаторы – молодые люди с балалайками.
Ко мне подсела Тоня, вся раскрасневшаяся от танцев, с блиставшими от удовольствия глазами. Наклоняясь ко мне, она заговорила:
– До чего у вас весело! Счастливая, счастливая! Посмотри! Даже Ушинский танцует кадриль! Правда, он только расхаживает, но его обычной суровой серьезности точно и не бывало! Господи! хохочет! Ну, этого я уже не могла себе представить!
В эту минуту ее кто-то потащил за руку и поставил в круг танцующих.
Я присела в уголок к маленькому столику, чтобы поболтать с Евгениею Карловною Гаидебуровою, которая пила чай. Ко мне опять подбежала Тоня и проговорила, обращаясь к ней:
– Простите, что я утащу ее от вас.
– Берите, берите… Я сию минуту покончу с чаем и сама явлюсь к вам.
– Знаешь, вот тут, – объясняла мне Тоня, указывая на небольшой кружок молодежи, сидевшей, сгруппировавшись, в маленькой комнате, – идет игра в загадки и разгадки. Тот, кто не сумел разгадать, должен по присуждению окружающих рассказать что-нибудь из прошлого, но именно такое, в чем ему трудно сознаться.
Хотя после первых лет шестидесятых годов обычай без утайки говорить в глаза окружающим все, что только придет в голову, стал ослабевать, но пока он еще держался: грубость нигилизма уже сглаживалась, но его основа осталась. Я очень боялась, что до ушей щепетильной Тони, никогда не бывавшей в такой бесцеремонной компании, дойдет что-нибудь, что будет ее шокировать. Когда мы очутились в этой группе, очередь рассказывать о своих прегрешениях оказалась за Зариным, молодым человеком лет 28, с симпатичным лицом, на котором оспа оставила заметные следы. «Будьте же добросовестны, – кричали ему со всех сторон, – чистосердечно расскажите о ваших грехах молодости!»
– Не можете же вы требовать от меня, господа, чтобы я перед всей честной компанией взял да и открыл крепко-накрепко замкнутый сундук со всеми моими прегрешениями? Мне самому до смерти совестно вспоминать о многом.
– Так вытягивайте из него что-нибудь комичное!
– Почему же только комичное? Можно и трагическое.
– Во всяком случае, Зарин, вы не имеете права уклоняться от нашего условия.
– Пусть будет по-вашему. Я расскажу то, о чем до сих пор не могу вспомнить без краски стыда. Так вот: мне стукнул уже двадцать второй год, я только что перешел на третий курс юридического факультета и, должен сказать без хвастовства, был из серьезно занимающихся юношей. Несмотря на это, у меня была скверная привычка отправляться вечером после занятий, а то и ночью, шляться по улицам и приставать к одиноко идущим женщинам. Мне очень нравилось такое времяпрепровождение, и я находил, что это нисколько не предосудительно, даже полезно, как отдых после усидчивых занятий. И зачастую по вечерам или ночью я провожал то одну, то другую молодую особу, пока та не исчезала из моих глаз или не начинала во все горло звать городового. Тогда уже я со всех ног бросался в какой-нибудь переулок. Эта скверная привычка оставалась у меня даже и после того, когда однажды ночью я увидал небольшого роста худенькую-прехуденькую девушку, скорее даже подростка, которая боязливо пробиралась по улице, держа в одной руке портфельчик, вероятно с musique[2]. Еще пока я шел сзади нее и мои шаги гулко раздавались по тротуару, я заметил, что она вся дрожит как осиновый лист. Но ее страх и трепет ничуть не устыдили меня. Вдруг она сразу побежала, но я следовал за нею крупными шагами и скоро догнал ее, поравнялся с нею и положил руку на ее талию. Она еще пуще затрепетала, я отбивалась, как пойманная птичка, слезливо всхлипывая, произносила какие-то бессвязные слова, а я еще крепче притянул ее к себе, и она без звука (верно, от страха у нее сделались спазмы в горле) почти упала на мою руку. Но в ту же минуту с шумом раскрылся ярко освещенный парадный подъезд дома, мимо которого мы с нею проходили. Оттуда на улицу вышло несколько мужчин и женщин. Схваченная и облапленная мною девочка точно сразу очнулась и как мышка юркнула в открытый подъезд. Волей-неволей я побрел домой, но должен сознаться, что и после своего возвращения я не почувствовал ни стыда, ни угрызения совести. Стою один в своей комнате и хохочу как дурак, – так мне было смешно вспоминать тот момент, когда трепещущую девочку я ощущал на своей руке, когда мне чудилось, что я слышу биение ее сердца. Эта позорная привычка, вероятно, довольно основательно сроднилась бы с моею душою, если бы не один случай…









