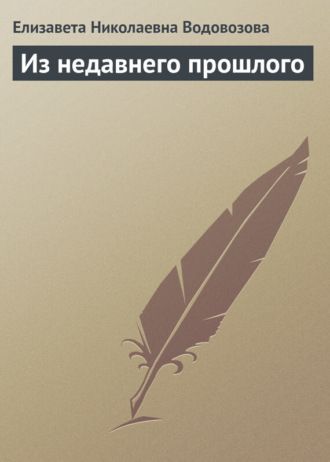 полная версия
полная версияИз недавнего прошлого
Лидия Карловна была чудеснейшею и умною девушкою. Прекрасно понимая все недостатки матери, умея находить их и тогда, когда они были прикрыты ее светскою и остроумною болтовнёю, с антипатиею относясь ко множеству знакомых светского круга ее родителей, она всем сердцем разделяла стремления тогдашней молодежи, постоянно умственно шла вперед, но продолжала страстно любить свою мать, которая, в свою очередь, платила ей горячею материнскою привязанностью. Но ни новые люди, которыми все более окружала себя Александра Аркадьевна, ни новые взгляды, ни ее горячая любовь к дочери не изменили вполне ее миросозерцания, сложившегося под влияниями, совершенно противоположными убеждениям ее новых посетителей. Хотя многие взгляды, усвоенные ею чуть не накануне, она смело пускала в ход, точно всегда придерживалась их, но многое, что сильно колебало прежние ее понятия светской женщины, укладывалось в ней совершенно поверхностно: она то и дело язвительно высмеивала хорошее, симпатичное и достойное уважения. Добиваясь знакомства с каждым более или менее известным лицом, она умела умно и мило поговорить с ним и, как казалось, даже выказать сердечное расположение; от нее почти все уходили, очарованные ею. Но никто лучше ее не умел так превосходно, можно даже сказать художественно, выдвинуть слабые и смешные стороны своего посетителя, его некрасивые манеры, его невзрачный вид, смешно сидевший на нем туалет. Ее высмеивания касались преимущественно внешней стороны человека, но делались они с таким юмором и неподражаемым мастерством, что являлись выпуклыми и рельефными и заслоняли собою благородные стороны ума и сердца высмеиваемой личности. Когда подобные разговоры происходили при ее дочери, та говорила: «Опять эти зловещие светские звуки!» – или что-нибудь в этом роде, и произносила это либо с грустью, либо с досадою, смотря по тому, кого и что высмеивала ее мать. Лидия Карловна рано составила себе правильное понятие о том, над чем можно смеяться и чего не дозволяет нравственное чувство интеллигентного человека. Мать была несравненно одареннее дочери, но многие, присутствуя при том, как она беспощадно критиковала то того, то другого, только что вышедшего за порог ее двери, не принимали в расчет неблагоприятных сторон ее воспитания и прежней жизни, считали ее двуличною и фальшивою. Напротив, к ее дочери все, кто близко знавал ее, относились с полным доверием и благожелательностью.
Когда я очутилась наедине с Лидиею Карловною, я спросила ее о том, какие рукописи и письма она в последнее время пересылала моему сыну, чтобы сообразить, что из них могло быть захвачено при обыске, затем дала ей множество указаний, как ей следует действовать. Я встала уже, чтобы уходить, когда Лидия Карловна опять заговорила: «Мне бы так хотелось объяснить вам причины дикой сцены, которую мама закатила вам», – и она рассказала мне, что утром в этот день один из ее знакомых известил ее оо обыске у нас. Это заставило ее немедленно заявить родителям, что то же самое грозит и ей, что она, наверно, будет скоро арестована. Хотя они сперва не поверили в возможность этого, но это так их ошеломило, что они послали с нарочным записку старинному другу семьи (который знал Лиду с ее рождения и был с нею на «ты»), чтобы он немедленно посетил их по очень важному делу. Выслушав все, что Лида при родителях сообщила ему о своем участии в этом злополучном деле, их приятель сказал, что за перевод нелегального сочинения и издание его в ничтожном количестве, не получившего еще распространения, по его мнению, переводчики понесли бы небольшую кару, вроде того, что их отдали бы на известное время под негласный надзор полиции. А вот тем, кто писал примечания и снабдил перевод Туна приложениями, а судя по заглавию книги можно себе представить, какого характера они должны быть, раз их составляли радикальные студенты, им уже не только никогда не видать университета, но их ждет судьба, пожалуй, и похуже. Этот друг Давыдовых очень советовал им сильно попридерживать теперь Лиду от посещения и приглашения к себе подобных молодых людей, иначе, говорил он, ей не уцелеть. Он, то есть приятель семейства знаменитого музыканта, ушел от них не более как за полчаса до моего прихода. Вот это и было, по словам Лидии Карловны, главною причиною испуга ее матери «до умопомрачения». Затем эта милая девушка стала говорить мне, что как она, так, вероятно, и многие сотрудники перевода Туна сочтут своею нравственною обязанностью отправиться в жандармское управление и заявить о своем участии в названном издательстве, что такое сознание всех прикосновенных к этому делу, вероятно, облегчит судьбу моего сына, на котором теперь тяготеют их общие грехи, и в таком случае ему, вероятно, не будет грозить опасность покинуть навсегда университет.
Я доказала ей всю несостоятельность и неправильность такого взгляда в принципиальном отношении, обратила ее внимание и на то, что наши нравы обязывают того, кто попался, мужественно выкручиваться самостоятельно и все силы употребить на то, чтобы даже случайно кого-нибудь не пристегнуть к своему делу, если бы оно даже велось сообща.
Когда я выходила от Давыдовых, чтобы ехать домой, уже наступил вечер. Я только теперь почувствовала страшную усталость. С момента обыска прошло немногим более суток, а я за это время пережила смену самых разнообразных впечатлений: воочию увидела предательство и человеческую низость, испытала незаслуженную дерзость, была свидетельницею всей мерзости рабского страха. «Но, боже мой, какие это все мелочи, – думала я, – сравнительно с тем ужасом, который охватывал меня при мысли, что мои сын будет лишен университетского образования». Это только теперь впервые пришло мне в голову. После его ареста я думала только об одном: будет ли он иметь возможность заснуть в тюрьме, дали ли ему что-нибудь поесть. Но то, что арест может повлечь за собой лишение образования, мне ни разу не пришло в голову за суетой этого дня. «Нет, я не могу, я не должна этого допустить! Как мать, я обязана отдать всю жизнь до последнего вздоха, чтобы только не случилось этого!» Меня всю знобило, сердце то замирало, то учащенно билось, и я с тревогою думала о том, в состоянии ли я подняться к себе в четвертый этаж. «Если бы заплакать, если бы заплакать, мне стало бы легче!» И мне вспомнилось, как в особенно тяжелые минуты моего злополучного детства у меня тоже не было слез и как обожаемая мною сестра, наклоняясь надо мной, говорила: «Заплачь, сестренка, заплачь, тебе будет легче!» Ее горячие слезы падали на мое лицо, растопляли лед, сковывавший мои члены, и я начинала рыдать на ее груди. «Ее уже давно нет, – и один ужас впереди!» Минутами мне представлялось, что передо мною вертится громадных размеров колесо: я нечаянно зацепилась за один из его зубцов, и теперь уже мне не будет пощады.
Подымаясь к себе мимо третьего этажа, я увидала, что городовой продолжает сидеть у дверей нашей квартиры. Он весело и добродушно закивал мне головою, точно встретил родного человека. Несколько дней сряду после обыска то один, то другой городовой сидел у нашей двери. Мы совершенно свободно уходили и возвращались домой, некоторые из знакомых навещали нас, и городовой не мешал этому. На некоторых, однако, он наводил страх: узнав, что нашу дверь сторожат, многие не приходили вовсе, а другие, уже подымаясь на лестницу и только тут заметив городового, делали вид, что читают дощечки или ошиблись нумером квартиры, и спускались вниз, – так, по крайней мере, они сами нам рассказывали.
Когда я позвонила, навстречу мне выбежали мои домашние и курсистка Гитта, которую мы все очень любили. Я могла только сказать им, что устала, лягу в постель и тогда все расскажу. После изложения всех моих мытарств и злоключений мои домашние разошлись по своим комнатам, а молодая девушка села подле моей кровати и начала сообщать о своем тяжелом положении. Она, как и другие курсистки-еврейки, после переэкзаменовки некоторых окончательных экзаменов осенью, должна была уехать из Петербурга. Экзамены затянулись, но вот уже месяц, как они кончились, а ей крайне необходимо пробыть в Петербурге еще с месяц. Последнее время, по хлопотам различных лиц, ей выдавали отсрочки, но дольше полиция не желает ее здесь оставлять и через два дня заставляет ее уехать на родину. Она – сибирячка, может получить деньги только через месяц; к тому же тут у нее есть неотложные дела. Вся надежда у нее только на меня. Я должна что-нибудь придумать, что-нибудь сделать, чтобы она могла прожить в Петербурге еще хотя один месяц.
– Я ничего не могу придумать, чтобы облегчить опасность, грозящую моему сыну, чем же я могу помочь вам? Я даже не имею представления о том, к каким лицам обращаются в таких случаях.
Гитта осталась ночевать в моем кабинете, в который дверь моей спальни была открыта. Через несколько часов, убедившись, что она не спит, я позвала ее к себе и сообщила ей, что по ее делу я надумала обратиться к полицейскому приставу, который накануне делал у нас обыск. Но по выражению ее физиономии я поняла, что мои слова не только сердят, но и обижают ее. Помолчав, она проговорила:
– Я знаю, что с моей стороны было крайне неделикатно тревожить вас… Что же делать, если вы для меня являлись соломинкою, за которую хватаются утопающие. Но зачем же предлагать такое, что можно принять за насмешку?
– Если бы вы за один день испытали столько, сколько я сегодня, то вы, наверно, более доверчиво отнеслись бы к полицейскому приставу, о котором я говорю. Он чрезвычайно зло и остроумно высмеивал смехотворную трусость действительного статского советника, без придирок и мелочности исполнял свои обязанности, был со всеми вежлив и корректен, охотно и без уверток отвечал на мои вопросы, а в жандармском управлении меня пересылали из одного отделения в другое, гадко и злобно осыпали меня дерзостями, хотя я не подала к этому никакого повода. Вот я и желаю обратиться по вашему делу к этому человеку. Я не думаю, чтобы он чем-нибудь существенно помог вам в вашем затруднении, но я уверена, что он даст хотя какой-нибудь толковый совет, объяснит нам, к кому можно было бы обратиться.
Узнав от дворника, что пристав принимает в 11 часов утра, мы отправились с Гиттой еще раньше, чтобы явиться к нему до его приемного часа, и я предварительно написала на визитной карточке, что прошу его принять меня по моему личному делу не в участке, а в его квартире. Пристав немедленно вышел со словами:
– Но чем же я могу быть вам полезен? Ведь с окончанием обыска окончились и мои обязанности.
Я отвечала, что пришла к нему с моею приятельницею с просьбою, а если он не может исполнить ее, то дать нам хотя добрый совет.
– Удивляюсь, прямо можно сказать поражен, что вы… вы… после обыска, сделанного мною, все же решаетесь обратиться ко мне с просьбою, да еще за советом. Наперед обещаю, что все, что в пределах закона и что дозволят мне мои силы, я все сделаю для вас обеих с величайшим удовольствием.
Моя приятельница подробно рассказала ему свое дело и показала свои бумаги. Рассмотрев их, он сказал:
– Разрешить вам продолжительное пребывание в Петербурге я не имею права, но еженедельно выдавать вам отсрочку в продолжение полутора месяцев – могу.
И он сейчас же выдал ей какую-то бумажку на неделю, а затем просил ее присылать к нему свою прислугу каждую неделю за такою же отсрочкой.
– И в другой раз я готов прийти к вам на помощь, если только вы не побоитесь моего звания, – сказал он нам, когда мы, прощаясь, благодарили его за оказанную услугу.
Через несколько дней после обыска я получила повестку, вызывавшую меня в жандармское управление. За столом в комнате, в которую меня ввели, сидели два жандарма. Когда я уселась на указанный мне стул, один из них, не подымая головы, продолжал что-то писать, а другой начал снимать с меня формальный допрос. Тут только я рассмотрела, что это был не кто иной, как жандармский ротмистр П. Я не показала и вида, что узнала его, и совершенно покойно отвечала на все его вопросы, которые начались с того, что их так всех заинтересовало, а именно: о моей квартире с внутреннею лестницею. Затем он просил назвать всех членов моей семьи, их лета и занятия и перешел к вопросу о причине многолюдных собраний у меня по вторникам. На этот вопрос я отвечала, что всю жизнь прожила в Петербурге и нет ничего удивительного в том, что приобрела много знакомых. На его же предложение назвать их имена и фамилии, я сказала, что не считаю возможным исполнить его желание.
– А по какой причине? – бросил он грубо и отрывочно.
И на это я по-прежнему вежливо отвечала ему, что из-за этого могут быть неприятности для моих знакомых.
– Позвольте узнать, о каких таких неприятностях вы изволите говорить?
– Вы сами это знаете лучше меня.
– Вы обязаны немедленно объяснить сказанное вами и назвать лиц, наиболее часто вас посещающих.
– Я решительно отказываюсь отвечать на оба эти вопроса.
– Вы должны понимать, что это совершенно бесполезно: агентурные сведения дают нам возможность прекрасно знать всех лиц, посещающих вас.
– А потому-то я и не сообщаю, что это бесполезно, как вы сами только что сказали.
Он резко пододвинул мне бумагу с словами:
– Извольте писать под мою диктовку.
И он начал диктовать по порядку, все, что было мною сказано, придавая местами иной характер моим словам и выражениям. Я положила перо со словами:
– Зачем вам трудиться диктовать, когда я сама могу написать?
– Вы думаете, у меня есть время с вами возиться? Вам сказано писать, и вы должны исполнять то, что вам приказано. Извольте сейчас же писать.
– Я не верю, что вам дано право так обращаться с кем бы то ни было. Во всяком случае, или не мешайте мне писать, или я немедленно уйду и спрошу у товарища прокурора господина Котляревского, допустимо ли здесь такое обращение, которое я встречаю от вас уже во второй раз.
– Да пусть госпожа Водовозова пишет, как она желает, – заметил второй жандарм, тут только подняв впервые голову от своей бумаги.
Когда я написала все, что требовалось, ротмистр взял бумагу и протянул ее своему соседу, который, прочитав, пробурчал:
– Кажется, все так было и устно изложено.
И я вышла из жандармского управления, уже не сомневаясь в том, что нажила себе в ротмистре П. злейшего врага.
Не дождавшись срока, назначенного мне Котляревским, я через два дня после свидания с ним, а именно 28 февраля, опять отправилась к нему с предварительно заготовленным письмом, в котором извинялась, что тревожу его раньше назначенного им времени, и объясняла, что тяжелое нравственное состояние неизвестности заставляет меня осведомиться о том, не успел ли он уже ознакомиться с делом моего сына.
Те, кто был в таком положении, в каком очутилась я, прекрасно знают, что самое ужасное в подобных случаях – оставаться без хлопот об арестованном близком человеке. С утра до вечера точно кто-то толкает тебя, точно кто-то нашептывает в уши: «Не стой на месте, ежедневно, ежечасно думай, разузнавай, нельзя ли что-нибудь сделать для облегчения участи». Эта мысль так назойливо преследует, что всякое другое дело просто валится из рук.
Я очень удивилась, когда служитель, относивший мое письмо, пригласил меня к Котляревскому: я думала, что он вышлет мне сказать, чтобы я пришла к нему через неделю, как уже было мне сказано.
– А ведь я еще не вполне ознакомился с делом, – сказал Котляревский, когда я вошла к нему. – Вы, видимо, сильно тревожитесь за судьбу вашего сына, и я уже теперь могу вас несколько успокоить: кара, вероятно, будет совсем не из тяжелых. Имейте только в виду, что я еще не успел ознакомиться со всем необходимым материалом и что решение дела зависит от усмотрения многих лиц. Если пожелаете узнать еще что-нибудь, зайдите ко мне через три-четыре дня. Во всяком случае, могу вас порадовать одним, – дело не затянется.
Уже прошел срок, назначенный мне Котляревским, а я все не являлась к нему. Только такое экстраординарное событие громадной важности, как второе первое марта, могло задержать меня: я знала, что все внимание жандармского управления и полиции сосредоточено теперь только на случившемся. У меня, однако, не хватало сил долго ждать, и я отправилась снова к Котляревскому.
– Теперь дело вашего сына затянется, – сказал он, махнув рукою, как бы говоря: «нам не до вас!»
– Но почему же?
– Да мало ли почему: будут разыскивать, не имели ли лица, арестованные за другие преступления, знакомства или каких-нибудь сношений с террористами, не принимали ли они косвенного или прямого участия в их заговоре. Да и кару ваш сын понесет потяжелее, чем тогда, если бы не случилось этого ужасающего преступления.
– Неужели кару за политические проступки налагают, не только соображаясь со степенью их тяжести, но и с событиями известного характера, хотя бы они совсем не касались арестованного?
– Непременно… Это сильно принимается в расчет! Такие события, как теперешнее, наводят обывателя на мысль, что господа революционеры несут слишком слабую ответственность за содеянное ими и что подобные печальные явления – результат слабости правительства.
– Неужели правда и то, что усиливают кару политического и за случайное знакомство с лицом, более его скомпрометированным? Ведь человек может быть знакомым с тем или другим, но находить своего приятеля неподходящим к революционной деятельности и ни слова не говорить с ним о своих планах и намерениях революционного характера.
– Извините, у нас этого никогда не бывает! Молодой человек, отдавшийся революционной деятельности, считает каждого своего знакомого подлецом, если тот не занимается тем же, чем и он, а себя ни к чему не годным, если он не сумел склонить каждого к такой же деятельности.
Недели через полторы после обыска, когда отобраны были формальные показания как от всех членов моей семьи, так и от служащих у меня в то время и служивших в моем доме много лет тому назад, мне разрешены были свидания с сыном. Я знала, при какой обстановке происходят эти свидания в доме предварительного заключения, мне однажды начертили даже план комнаты с клетками, но действительность превзошла составленное мною представление. Когда я подошла к железной клетке с двойною решеткою, в которую с другой стороны ввели моего сына, я была так ошеломлена и потрясена, что долго не могла выговорить ни слова. Трудно представить себе чувство матери, когда ей показывают родное детище, точно хищного зверя в железной клетке зоологического сада! Разница только в том, что там эта клетка стоит под открытым небом, а в клетке для арестованных настолько темно, что нельзя рассмотреть физиономию человека, стоящего в ней. Мне давали и «личные свидания»: тогда в одну из камер вводили арестованного и сажали его и меня за столик, у которого также садился тюремный надзиратель или жандармский унтер-офицер. Эти «личные свидания» почти не давали возможности беседовать с арестованным: если вы начинали говорить на иностранном языке, вас немедленно предупреждали, что это не дозволено; с тем же самым обращался к вам смотритель и тогда, когда он чего-нибудь не понимал в вашем разговоре. Да и в голову ничего не приходило при такой обстановке.
Некоторое время свидания шли совершенно правильно. Вдруг однажды, когда я только что вошла в дом предварительного заключения, один из надзирателей подошел ко мне и заявил, что я лишена свиданий, и быстро исчез. Я долго сидела на скамейке крошечного коридорчика перед дверью, за которой происходили свидания с заключенными, но смотритель не появлялся. Я была так ошеломлена этим известием, что решительно ничего не могла сообразить; наконец как-то машинально вышла на улицу и отправилась в жандармское управление. Без доклада вошла я к Котляревскому, который встал при моем появлении, и как-то машинально опустилась на стул. Я молчала, а он ходил по комнате, тоже не говоря ни слова. Наконец он налил стакан воды и поставил его передо мною. Я сделала глоток, но рука так дрожала, всю меня так трясло, что я поставила его обратно.
– За что мне запрещены свидания? – с трудом вытянула я наконец из своего горла.
Не останавливаясь и по-прежнему шагая по комнате, Котляревский проговорил:
– Вероятно, в наказание за то, что ваш сын не отвечал чистосердечно на вопросы, на которые он обязан отвечать.
– А, значит, только предатели могут видеться со своими матерями! – И тут я потеряла всякое сознание того, что я говорю, всякое самообладание и говорила, говорила, не переставая; сама себя я услышала только тогда, когда выкрикнула последнюю фразу: «И вы, человек образованный, в этой грязной яме!» Тут я несколько опомнилась, хотела встать со стула, но не могла и начала опять пить воду.
Котляревский, облокотившись на спинку пустого стула и наклонившись ко мне, проговорил резко и отчетливо, но не громко: «Как вы смеете в таком виде являться сюда? Берегитесь!» – и с шумом отодвинул свой стул, как бы приготовляясь сесть за стол. Я встала и пошла к двери, не прощаясь и не говоря ни слова.
Только ночью, лежа в постели и вспоминая все происшедшее за день, я ужаснулась при мысли, что, вероятно, наговорила Котляревскому такое, что повредит моему сыну, что теперь я лишаюсь единственного человека в жандармском управлении, который деликатно относился ко мне. Меня мучила и моя несправедливость относительно Котляревского: за его внимание я отплатила ему дерзостью. Я давала себе слово впредь молчать, когда что-нибудь будет меня сильно волновать, ужасалась своей невоздержанности вообще, хотя уже и тогда была в возрасте, смежном со старостью, но сумела выдрессировать себя в этом отношении лишь гораздо позже. Я решила не показываться более к Котляревскому на глаза, да в этом пока и не было нужды. Знакомые посоветовали мне пропустить еще одно свидание, а затем навести справки у начальника дома предварительного заключения, не получилось ли для меня дозволение снова ходить на свидания. Оказалось, что такое разрешение только что получено.
При каждом «личном свидании» я замечала, как пагубно отзывалась тюрьма на здоровье моего сына. Ввиду того что окончание его дела все затягивалось, я просила директора департамента полиции о том, чтобы мне отдали сына на поруки под денежный залог.
– Политическому преступнику не место в вашем доме, в котором собираются писатели и вообще люди неблагонадежные. Нам известно и то, что вам наносили визиты и только что выпущенные из дома предварительного заключения, – сказал мне директор.
Наступило лето, и я переехала с семейством на дачу. Я написала моей престарелой матери, чтобы она попыталась с своей стороны подать прошение с просьбою отдать ей внука на поруки, но она долго не откликалась на мое письмо, и я совершенно не понимала, почему не получаю от нее ответа. В одно из свиданий с сыном я вдруг заметила кровоподтеки на его висках. Это так меня встревожило, что я опять отправилась к директору департамента полиции, который, расспросив, где я теперь живу, к моему удивлению, сразу разрешил мне взять сына на дачу с условием, чтобы я внесла денежный залог, предупредив меня при этом, что, если к осени дело его все еще не будет окончено, он, то есть директор, никоим образом не дозволит ему жить со мною в Петербурге. Все же это быстрое согласие на исполнение моей вторичной просьбы, вопреки категорическому отказу в первый раз, вероятно, объясняется тем, что и тюремный врач заметил крайне болезненное состояние арестованного. Я внесла требуемый от меня залог и скоро после этого должна была за какой-то справкой снова явиться к директору, который объявил мне, что получил прошение от бабки моего сына.
– Теперь уже я отдал распоряжение о том, что ваш сын будет жить с вами на даче, но осенью вы должны отвезти его к вашей матери.
Так говоря, он просматривал какую-то бумагу, и мне показалось, что это и было прошение моей матери: он спрашивал меня о месте ее жительства, о том, с кем она живет, и при этом сверял с тем, что написано было в бумаге, которую он держал. Через недели две после этого я получила письмо от матери, которое носило явные следы перлюстрации, а потому и получилось гораздо позже, чем следовало. Причину своего долгого молчания моя мать объясняла своею болезнью. Она прислала мне и копию с своего прошения: в нем говорилось, что она живет в девяноста верстах от железной дороги, в глухой деревне Бухоново Смоленской губернии, в местности, в которой не существует ни фабрик, ни заводов. Она просила исполнить ее просьбу вследствие ее болезни, «надвигающегося конца ее жизни, полного одиночества, так как с нею никого нет, кроме психически больной дочери, а также ввиду заслуг, оказанных родине ее двумя родными братьями Иваном и Николаем Степановичами Гонецкими».
В продолжение всего лета на даче, несмотря на пребывание в ней моего сына, полиция совершенно не беспокоила нас. Осенью я отправилась в Смоленскую губернию и с крайним страхом оставила моего сына у матери, так как она жила с моей старшей сестрой, в то время душевнобольной. Меня очень тревожила мысль, как отразится ее болезнь на моем сыне, незадолго перед этим перенесшим тюремное заключение.









