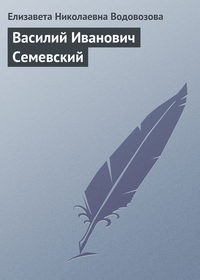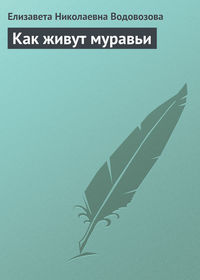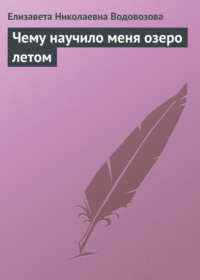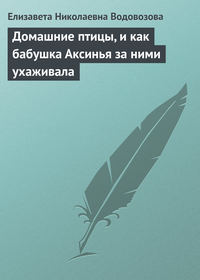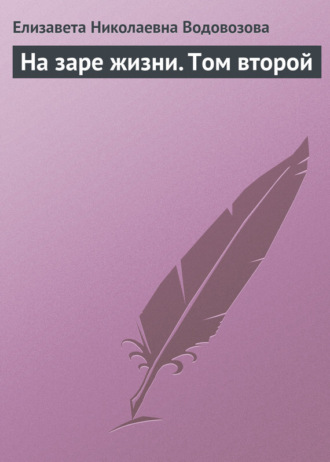 полная версия
полная версияНа заре жизни. Том второй
На этот раз я не взяла ученика, села на скамейку сзади Помяловского и начала прислушиваться к его преподаванию. Он с такой доброй улыбкой провел рукой по волосам белобрысого мальчонка, что, видимо, сейчас же расположил того в свою пользу. В то время как Помяловский перелистывал книгу, чтобы выбрать что-нибудь для чтения своего ученика, тот спросил его:
– Скажите, дяденька, как это пророк Илья так гулко громыхает по небу? Ведь на нем нет ни каменной мостовой, ни мостов…
Помяловский громко расхохотался, ему вторил и его ученик; затем он так просто начал рассказывать о небе и тучах, о громе и молнии, что под конец мальчик воскликнул:
– Значит, про пророка Илью только сказки сказывают?
Во время этого объяснения к Помяловскому подходили и другие ученики, без церемонии оставляя своих учителей, и наконец около него образовалась целая группа, из которой то один, то другой спрашивал его что-нибудь. Помяловский встал с своего места и с неподражаемою простотою, то добродушно посмеиваясь, то сопровождая свои объяснения русскими поговорками и пословицами, разъяснял недоумения детей. Скоро все присутствующие в школе – ученики и учителя обратились в одну аудиторию и внимательно слушали в высшей степени занимательные объяснения Помяловского.
Когда мы уходили из воскресной школы, Вера подошла к Помяловскому и пригласила его на свои вечеринки, несмотря на то что они друг с другом совсем не были знакомы. Но тогда этим не стеснялись, если только встреченный человек казался симпатичным. Так на это, видимо, посмотрел и Помяловский: он сердечно поблагодарил Веру за приглашение, записал ее адрес и дни приема и обещал бывать у них, что и выполнил, но меня уже тогда не было в Петербурге.
Объединение людей шестидесятых годов в кружки было в ту пору в большом ходу и представляло своего рода новинку. Общественное движение, охватившее русское общество, выдвинуло множество вопросов, о которых необходимо было побеседовать сообща; этому объединению сильно содействовали демократические идеи и пошатнувшиеся сословные перегородки. Во многих кружках, особенно в тех из них, которые были устроены с просветительными целями, можно было встретить чрезвычайно смешанное общество: и дам высшего света, и студентов, и сыновей купцов, и чиновников, но, конечно, чаще всего интеллигентную молодежь обоего пола, среди которой было теперь так много бывших семинаристов и детей разночинцев.
Как устроился частный маленький учительский кружок (его называли также кружком педагогов юного поколения), который я посещала, – я не расспрашивала; знаю только, что никакого членского взноса в нем не существовало, и посетители собирались то в одной, то в другой квартире кого-нибудь из своих знакомых. На заседания кружка приходил каждый желающий, если у него был в нем хотя один знакомый. При входе с каждого взимали по 15–20 копеек на чай и булки, что и передавали кухарке. Чаще всего и таких сборов не делали, так как хозяйка квартиры все расходы принимала на себя. Когда собравшиеся усаживались к столу, один из них спрашивал: «Кто желает сегодня рассказать о том, как он ведет свои занятия в воскресной или какой другой школе, какие рассказы и чтения предлагает своим ученикам и как они реагируют на это?» И молодые люди обоего пола излагали, как они занимаются с своими учениками, какие вопросы те задают им, каковы результаты их преподавания. Обучением в воскресных школах тогда живо интересовалось все интеллигентное общество. Вера Корецкая подробно рассказала о беседах Помяловского с учениками. Многие тут же решили посещать ту воскресную школу, где преподает этот писатель, чтобы поучиться у него преподаванию.
Однажды кто-то заявил на собрании нашего учительского кружка, что он только что слышал, что при обучении первоначальной грамоте скоро будет введен такой метод который во много раз ускорит ее усвоение. Ввиду того что никто из присутствующих ничего не знал об этом, я, несмотря на свою застенчивость, изложила все, что я слышала о звуковом методе от К. Д. Ушинского в бытность его инспектором Смольного монастыря: он уже тогда занимался этим вопросом и решил в близком будущем написать азбуку (впоследствии приобревшую замечательно громкую известность) и изложить еще новую тогда теорию начального обучения грамоте. Когда я сделала свое сообщение, на меня резко напал «Экзаменатор», который усердно работал в одной из воскресных школ. Он выступил с серьезным обличением меня за то, что в моем присутствии состоялось уже несколько заседаний этого кружка, а между тем я умалчивала о вещах, которые могли быть полезны для всех, кто занимается преподаванием. При этом он закончил свое обличение словами:
– Вы сами видите теперь, какое гнусное воспитание вы получили в вашем великосветском пансионе или институте. Вместо того чтобы научить вас разумному отношению к делу, оно приучило вас к рабскому молчанию или к пошлой конфузливости… Так говорите же, может быть, вы еще знаете что-нибудь путное?
До невероятности обозленная таким бесцеремонным отношением «мальчишки», я молчала, не умея дать ему надлежащий отпор. Но когда другие обратились ко мне с тою же просьбою, но в более деликатной форме, я начала говорить о том, что присутствующие, насколько я могла понять, совершенно отрицают классную дисциплину, находят, что учащиеся должны пользоваться полною свободою: захотят во время урока поболтать с соседом, побегать в коридоре, могут поступать как вздумается. Ушинский же стоит за строгую классную дисциплину, которая, однако, дает полную свободу ученикам высказывать учителю все, что им приходит в голову, но в то же время обязывает их соблюдать тишину и порядок в классе, иначе, по его мнению, ученики мешают своим соседям слушать, а учителю – объяснять преподаваемое.
На Ушинского посыпались обвинения в ветхозаветных взглядах:
– Мы, молодое поколение, – заявлял то один, то другой, – должны порвать связь с тем жестоким временем, когда к учащимся относились не как к разумным существам, а как к солдатам, которые по заведенному порядку, по команде должны были думать, соображать, отвечать, уходить, приходить…
Такие выражения относительно Ушинского мне казались святотатством: меня это крайне разобидело за него, и я хотела крикнуть им, что, требуя тишины в классе, он показывает только, что не желает смешивать свободу с распущенностью. Я считала своею нравственною обязанностью бросить это в глаза им, осмелившимся осуждать такого великого педагога, а между тем постыдно промолчала.
– Скажите-ка лучше, сколько ему лет? – спрашивали меня.
– Это никакого отношения не имеет к его взглядам! – возражала я.
– Напротив: почтенные годы даже умных людей обыкновенно заставляют держаться совсем непочтенных взглядов! Иные старички придерживаются заскорузлого образа мыслей даже не из подлости, а просто потому, что они одряхлели…
– Если вы находите нужным делать тайну из его годов, – перебил его другой, видя, что я молчу, – может быть, вы заблагорассудите открыть нам, как он относится к поэзии и искусству?
Я отвечала, что ни из чего не делаю тайны, что Ушинскому, кажется, нет и сорока лет, что в педагогике он реалист в лучшем смысле слова, что в качестве инспектора института он явился настоящим реформатором, ломал все старое, что он первый ввел в преподавание естественные науки, что он в своей хрестоматии отводит этим предметам много места, что на художественные произведения у него, сколько могу судить, такие же взгляды, как и у Николая Петровича Ваховского.
Присутствующие причислили его к разряду «честных педагогов», которые хотя и могли бы стоять в рядах современных людей, но годы и эстетические воззрения этому мешают.
Нередко собрания учительского кружка были посвящены воспоминаниям. В таких случаях кто-нибудь из присутствующих заявлял: «Я расскажу о своем детстве, то есть о том, как не надо воспитывать». У некоторых рассказчиков, иногда в художественных образах, вырисовывалась картина разврата помещичьей среды, ссоры, дрязги и интриги между родителями. Даже в тех семьях, где детей горячо любили, мало интересовались характером детской души, притупляли их любознательность, не давали им ни духовной пищи, ни простора для их умственной самодеятельности. И рассказчик или рассказчица обыкновенно так заканчивали свое повествование: «Вот потому-то мы и должны вести настоящую агитацию против тирании семьи, вот потому-то у нас явилось отрицание авторитетов наших отцов или же в лучшем случае полнейший индифферентизм к ним». И во всех подобных речах красною нитью проходила мысль, что прежде всего необходимо разорвать семейные цепи и реформировать законы, основанные на старых традициях и рабских устоях.
Прежде чем порицать молодежь шестидесятых годов за то, что она так беспощадно сурово относилась к родителям, нужно вспомнить, что она вынесла из родительского дома, будь то помещичья или чиновничья среда. В первом случае дети видели полный произвол как над крепостными, так и над собою: тех и других пороли, тем и другим давали зуботычины и пинки, те и другие были существами совершенно бесправными, с тою только разницею, что дети дворян еще с раннего детства приучались ничего не делать и с молодых лет проматывать состояние, созданное трудом крепостных. Помещичья среда и весь склад ее жизни развивали в детях взгляд на крестьян, как на низшую людскую породу сравнительно с собою, как на что-то вроде домашних животных, отданных судьбою под власть помещиков. Так же деморализована была и чиновничья среда: в ней дети с раннего возраста могли слышать о подхалимстве родителей перед начальством и невероятном взяточничестве; их заботливо обучали искусству снискивать себе благосклонность сильных мира сего и примерами доказывали им, как это необходимо для их будущего счастья и карьеры. Таким образом, молодое поколение вырастало, не получая добрых советов, не видя честных примеров, не воспитав в себе культурных привычек.
Нужно помнить также и то, что до освободительного периода русские люди были лишены какой бы то ни было инициативы как в сфере воспитательной и общественной, так и в сфере отвлеченного мышления. Вот потому-то, за исключением небольшого числа выдающихся людей, громадное большинство не имело привычки к самостоятельному мышлению, анализу и критике. Понятно, что многие из молодого поколения не могли разобраться в той массе идей, которые в освободительный период стали быстро распространяться в обществе, хотя многие из них были уже и не новы. Но откуда же могла познакомиться с ними молодежь того времени, получившая жалкое образование в своих семьях, корпусах, институтах и семинариях? Вот потому-то в шестидесятые годы так часто спорили об идеях и вопросах, иногда самых элементарных, о многом рассуждали наивно, односторонне, а то и нелепо. Серьезному, всестороннему и правильному обсуждению мешало также и то, что весьма многие вопросы были тесно связаны со сложными социальными и политическими идеями, мало доступными тогда громадному большинству. Недостаток опытности и образования мешали молодежи понять, что их отцы оказывались без вины виноватыми. О, если бы они поняли это, как многое смягчилось бы в их отношениях к ним! Но могла ли молодежь в водовороте кипучей, лихорадочной жизни освободительного периода хладнокровно сообразить, что самая жестокая неправда русской жизни не вина их отцов, а результат закрепощения народа в продолжение двух с половиною столетий? Могло ли молодым людям прийти в голову, что даже в них самих под налетом гуманных идей и демократических идеалов заложена толща барских привычек, рабских чувств и вожделений? Напротив, они твердо верили в то, что, резко порывая все связи с прошлым, они стряхивают с себя всю мерзость былых времен. Вот почему в молодом поколении шестидесятых годов с такою жестокою прямолинейностью явилось резкое отрицание всякого авторитета, а тем более родительской власти, вот почему так часто происходили тогда (и, конечно, у некоторых даже без крайней необходимости) тяжелые семейные драмы, ломка жизни как своей собственной, так и близких им людей. Весьма многие прекрасно понимали, что, разрывая с родителями, они остаются без поддержки, идут на голод и лишения, но им казалось, что как бы ни пострадали от этого их интересы и личная жизнь, какие бы ужасы ни сулило им будущее, но нравственная обязанность требует от них зажить новою жизнью, которая будет чище и справедливее той постылой, позорной и смрадной жизни, которую вели их отцы при крепостном праве.
Как бы иногда детски наивны ни были многие взгляды и суждения молодежи, но громадное значение имело уже то, что русское общество начало думать и заботиться не только о личных интересах. После вековой спячки обсуждение разнообразных вопросов будило мысль и сознание, а это волей-неволей заставляло читать и учиться. Все это мало-помалу вырабатывало критический взгляд и побуждало все более задумываться над различными явлениями общественной жизни. Одним словом, идеи шестидесятых годов, несмотря на односторонность и парадоксальности; некоторых из них, постепенно приводили к правильным выводам и расширяли умственный кругозор русского общества. Этому сильно помогала и литература: критические публицистические и научно-популярные труды внушал стремление к расширению прав народа, к улучшению его материального положения и к деятельности для его просвещения. Сатирические журналы и листки бичевали пороки, привитые крепостничеством. Те же идеи, те же обличения встречались и на страницах беллетристических произведений. Несмотря на то что очень часто герои повестей того времени были лишены жизненной правды и художественной простоты, изображены слишком тенденциозно, несомненно, что и беллетристика того времени немало содействовала распространению просветительных идей.
Глава XVII
У родственников
Лекция Костомарова. – Разговор с К. Д. Ушинским. – Встреча с П. Л. Лавровым
Прогостив несколько дней у «сестер» и получив обещание, что одна из них заедет за мною, чтобы отправиться вместе на лекцию Костомарова, я возвратилась в дом моих родственников.
С самого момента приезда моей матери в Петербург у меня установились с нею наилучшие отношения. Воспоминания о моем злополучном детстве изгладились из моей памяти, не ставила я ей более в вину и заброшенности в институте: с возрастом еще до окончания курса я начала сознавать, что в этом мне следует винить лишь печальное стечение житейских обстоятельств.
Хорошие отношения с матерью установились у меня прежде всего потому, что она увлекалась, как молоденькая девушка, многими новыми идеями, почерпаемыми ею прежде всего из чтения книг, чем она усердно занималась в последнее время, а также из разговоров в весьма разнообразных обществах, посещаемых ею в Петербурге. Труду и образованию она приучилась придавать огромное значение уже давным-давно, что же касается кодекса светских приличий и требований, то это было ей недоступно: с ранней юности судьба закинула ее в глухую деревню, в которой она и провела всю свою жизнь. Вот потому-то первобытные взгляды и понятия людей, в среду которых мы с нею попали, были одинаково антипатичны как ей, так и мне. Только мы различно реагировали на них: у меня рассуждения посетителей моих родственников нередко вызывали возмущение, а порой и наивное обличение, она же относилась к ним совершенно спокойно и находила их естественными в людях материально обеспеченных, заботящихся только о своих развлечениях и удобствах и жизнь которых лишила их возможности вдумываться в житейские явления. Консервативные до дикости рассуждения ее брата не влияли на ее взгляды, ни на йоту не уменьшали ее горячей любви к нему и глубокой признательности за доверие к ней, за его родственное участие в минуты ее особенно тяжелой материальной нужды. Когда дядя узнавал от домашних, что матушка собирается отпустить меня на лекцию или в какую-нибудь школу, он, смотря по настроению, или кричал на нее, или усовещивал в таком роде:
– Подумай, сестра, зачем ей (то есть мне) трепаться по лекциям и школам? Ведь это же глупая мода! Ты и без лекций сумела устроить свои расстроенные дела! Сила не в них, а в том, чтобы от природы иметь что-нибудь в верхнем этаже (при этом он стучал себя пальцами по лбу). А если там ничего нет, милая моя, так и лекции не помогут… только привьют девочке наглость и самомнение!
– Правда, братец, маленькое свое хозяйство я устроила и при жалком своем образовании, но только при помощи крепостных! А теперь каждому приходится рассчитывать только на себя!..
– Но зачем же непременно лекции? Твоя дочь Саша по лекциям не трепалась, а вышла умною девушкою.
– Братец, да ведь и такая молоденькая девочка, как она, все же из лекций вынесет побольше, чем из россказней вашего старого знакомого Селезня-вральмана… А ей только этим и предстоит наслаждаться в наших палестинах!
Дядюшка моментально вспоминал Селезня-вральмана и забывал все остальное при мысли, что он может сейчас рассказать о нем и о других чудаках нашего захолустья, с которыми познакомился, навещая своего покойного отца, и свою сестру в нашей деревне.
После обеда, происходившего обыкновенно в многолюдном обществе, если только матушка оставалась дома вечером, она отправлялась со мною в свою комнату.
– Ну, рассказывай все, все, что ты видела и слышала, – торопила она меня, ложась на кушетку. Я садилась подле нее и, боясь упустить какие-нибудь подробности передавала все по порядку, знакомила ее с разудалым? весельем молодежи, с впечатлениями, вынесенными мною из посещения новых знакомых, воскресной школы, учительского кружка и из моих занятий. Мы сообща вся обсуждали; многое, высказываемое молодежью, очень нравилось ей, но кое-что она находила диким и нелепым.
– Так он, этот мальчик, – говорила матушка, когда я рассказала ей о придирках ко мне Петровского, – при всем обществе так-таки и переконфузил тебя за сережки! Ах, бедная девочка! Но, знаешь ли, если серьезно подумать, так ведь он правильно нападает на женщин: действительно, смешно увешивать себя всякими балабошками и побрякушками! Наша сестра нацепит на себя браслеты, брошки, кольца, превратит себя в идола, а другие еще завидуют! Нет, глупость это одна, суета и тщеславие!..
Очень часто при передаче мною виденного и слышанного матушка предупреждала меня, чтобы я не проговорилась о том или другом в обществе родственников, а то скажут: «Вот среди какого круга людей вращается девочка с дозволения своей матери».
Когда я сообщила ей о том, что одна из «сестер» скоро заедет за мною, матушка сказала:
– Пусть бы только не Веруся приехала, она так бедно одевается! Начнутся разговоры… Ах, забыла, как они называют людей живых, смелых, но когда те бедно одеты? «Мятежными или беспокойными элементами», что ли? Не понравится им Веруся и тем, – рассуждала матушка, – что у нее такое строгое, серьезное лицо! Тут по душе женщины с улыбочками, с светскими ужимками и фокусами! Нет, богачам не оценить такую личность, как Веруся! А Таня, сдается мне, побольше придется им по вкусу! Впрочем, и ее не одобрят, если узнают, что она разошлась с своим мужем.
– Да им-то что за дело? – возмущалась я. – Ведь кто бы из сестер ни приехал, они явятся ко мне, а не к ним!
– Здесь не любят «разводок». И про Таню скажут, если, боже сохрани, до них дойдет как-нибудь слух об ее положении, что своим появлением она осквернила их дом! – И матушка рассказала мне, что как-то в мое отсутствие один из офицеров, назвав фамилию их общей знакомой, сообщил, что она разъехалась с мужем и требует от него формального развода. Тетушка сейчас же произнесла: «Надеюсь, что эта разводка не переступит более порога моего дома!» Матушка заметила ей, что гораздо лучше разойтись с мужем, чем делать детей свидетелями домашних дрязг и сцен. Дядюшка сейчас же набросился на сестру с словами: «Сама ты честно жила, с мужем не разводилась, потеряв его, сумела себя соблюсти, а не можешь составить себе правильного взгляда на брак!» – «Зачем же мне было с мужем разводиться, когда я всю жизнь его любила?» – спрашивает матушка, а тетушка воспользовалась этим, чтобы затянуть свою нотацию: «Кого бог соединил, того человек не может разъединить! Не удался брак – неси свой крест, вот что повелевает нам наша религия и приличие».
За мною наконец явилась Таня. Хотя она была очень скромно одета, но на этот раз принарядилась лучше обыкновенного и была очень мила и эффектна: она так любезно раскланялась с тетушкою, что понравилась даже ей, несмотря на ее требовательность по части этикета.
Если занятия по естествоведению не привлекали меня, зато лекция Костомарова меня вполне очаровала: по форме она отличалась необыкновенною художественною простотою, а по содержанию мне казалось, что лектор осуществляет идеал историка с точки зрения современных требований. Я была поражена, какая масса народа пришла на его лекцию. Среди них мелькали женщины в роскошных туалетах, но несравненно больше было крайне просто, а то и очень бедно одетых, с короткими волосами и в черненьких платьях. Тут я встретила нескольких девушек и молодых людей, с которыми уже познакомилась. И вдруг неожиданно для себя я увидала Ушинского. Как я была счастлива видеть его! Он также выразил удовольствие, что встретил меня на этой лекции, попенял, что я ему до сих пор ничего не сообщила о своем времяпрепровождении, и через несколько дней обещал навестить меня.
То, что это посещение произойдет в доме моих родственников, отравляло радость предстоящего свидания. Господи, как я стыдилась при мысли, что Ушинский застанет меня среди роскошной обстановки, как мучительно страдала от Допотопно-консервативных взглядов, которыми, как я ожидала, дядюшка и тетушка угостят его. Но когда лакей доложил мне о его приезде, я была дома одна, и мне пришлось провести его в свою комнату через анфиладу пустых зал и гостиных, роскошно убранных.
– Если вы долго проживете в такой обстановке, не думаю, чтобы она так или иначе не повлияла на ваше решение вести трудовой образ жизни. Там. где люди живут так, и их взгляды более или менее соответствуют обстановке К тому же обязанность порядочного и более или менее образованного человека развивать в себе скромные вкусы…
Я была совсем не ответственна за моих родственников и их обстановку, и меня крайне огорчило такое скептическое отношение ко мне Ушинского. Я отвечала ему конфузливо, что до сих пор, однако, это не оказало на меня ни малейшего влияния. Но я тут же забыла о маленькой боли, которую он мне причинил, и у меня вырвалось неожиданно для меня самой:
– Неужели тот, кто узнал вас, прослушал ряд ваших лекций, пользовался вашими советами и указаниями, может нравственно погибнуть?
Лицо Ушинского приняло горькое выражение, и он грустно произнес:
– Что вы толкуете? Разве я мог вывести моих институтских учениц на настоящую дорогу труда? Разве я мог девочкам, умственно не только неразвитым, но воспитанным в самых превратных понятиях, внушить человеческие взгляды, дать надлежащее направление их уму, когда каждый разговор с ними, чуть не каждая лекция перетолковывались вкривь и вкось, вели к неприятным столкновениям и интригам! – И он махнул рукой с какой-то безнадежностью.
И передо мною был Ушинский, этот смелый, энергичный человек, который, несмотря ни на какие препятствия и гонения, шел своею дорогою с гордо поднятою головою! Да, вероятно, много жизненных бурь пронеслось над ним в последнее время, если у него, хотя бы даже на мгновение, послышалась в голосе нота разочарования и сомнения! Я только тут заметила, как он исхудал и лишь позже узнала, как он тревожно доживал в институте последнее время своего инспекторства. Я страстно желала крикнуть ему, что он говорит неправду, что, напротив, он оказался настоящим титаном, который перевернул вверх дном все взгляды своих учениц, что, благодаря только ему, мы не можем пойти по той дороге, по которой пошли бы без него… Но я не издала ни звука, не умела формулировать своих мыслей, не нашла; ничего сказать ему в утешение, не смела даже поднять на него глаза и сидела, готовая зарыдать.
– Ну вот… ну вот, девочка!.. Зачем эти разговоры! Ведь я хотел вас порасспросить… а вы меня сбили, просто сбили меня с толку.
Меня так рассмешила мысль, что его, Ушинского, мог кто-нибудь сбить с толку, а тем более моя маленькая особа, что я вдруг расхохоталась, объясняя ему это среди приступов все нового смеха.
– Несомненно, вы сбили меня с толку! Сами приучили меня к своей невероятной застенчивости и скромности, а тут проявляете такую самонадеянность: «Как вы-де смеете говорить о том, что меня может погубить какая-нибудь обстановка, кто-нибудь и что-нибудь?» Но, конечно, чтобы скрыть свою гордыню, вам пришлось припутать и меня, и мои лекции… – И он вновь подсмеивался и шутливо переиначивал мои слова. Может быть, он настраивал себя на веселый лад, чтобы хотя на минуту заглушить душевную тревогу, которая так омрачала его жизнь в последнее время.
Затем он начал расспрашивать меня о том, что я успела прочитать после моего выпуска. Подобные вопросы он всегда задавал деловито-сурово. Я опять до смерти переконфузилась того, что мне приходилось сознаться ему, что работу, которую он дал мне, я еще не подвинула вперед. При этом я забыла даже привести что-либо в свое оправдание. Ушинский вообще чрезвычайно строго относился к занятиям своих учениц и не способен был обращать внимание на какие бы то ни было житейские обстоятельства. Он, вероятно, удивился бы, если бы кто-нибудь заметил, что девушке, только несколько недель тому назад соскочившей со школьной скамейки, естественно было повеселиться и поразвлечься после абсолютного монастырского затворничества. Ушинский же строго, как провинившейся школьнице, заметил мне: