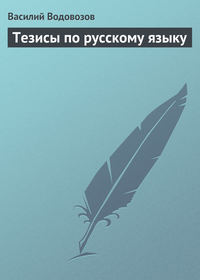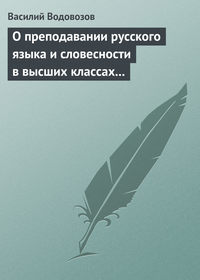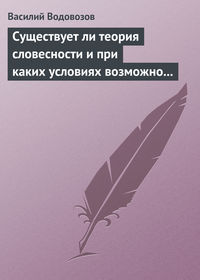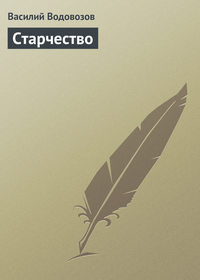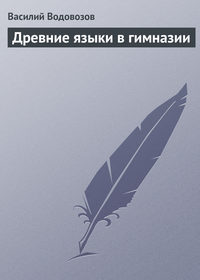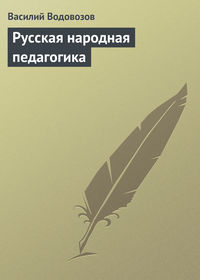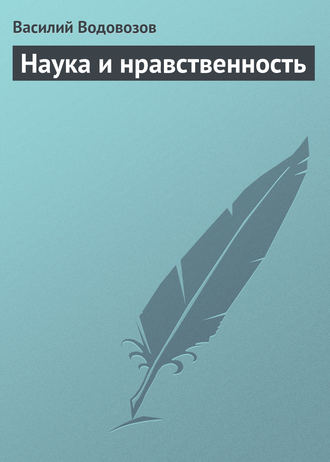 полная версия
полная версияНаука и нравственность
Он говорит: «разнообычную, разноусловную Русь не уложишь в какую бы то ни было общую формулу», и в то же время с жаром доказывает, что все образование народа должно быть исключительно религиозным и народ не хочет иметь у себя других учителей, кроме семинаристов. Считая семинаристов самыми приличными образователями сельского сословия, он об их собственном воспитании толкует следующее: «Бедный сельский священник, дьякон или причетник отдает детей своих в городское духовное училище (а вспомните, что автор против городского образования учителей); нанимает им квартиру, со столом, за два, много за три рубля в месяц, отчего эти дети не могут иначе жить, как в сырых, грязных вертепах. Они не доедают, сколько нужно, даже куска черствого хлеба, окружены в своем логовище пьяницами, уличными мошенниками, развратными людьми, нищими всякого рода, всеми нагноениями бедности. Во всем они терпят недостатки, все их давит в самом их цветущем возрасте… Какая ж натура в состоянии устоять против такого подавляющего напора!» (с. 16). Крайняя бедность фактов, собранных в брошюре г-на Щербины, заставляет даже сомневаться в том, изучал ли он сколько-нибудь народные школы. Он, например, рассказывает об унтер-офицере, которому подарили несколько книг в разных родах. Унтер обратил из них более всего внимания на «Краткое объяснение литургии». Прочитав ее несколько раз, он сказал: «Вот книга, так книга! Прочитавши ее только станешь истинным христианином», и проч. Известно, что книга «Краткое объяснение литургии» написана таким слогом, что простой человек ни слова в ней не поймет без объяснений преподавателя. Что касается педагогических воззрений г-на Щербины, то единственным их источником, сколько можно судить по брошюре, были духовные журналы и «Современная летопись» «Русского вестника». Автор, однако, очень справедливо вооружается против постоянного официального вмешательства в народные школы, против формальной их регламентации. Мы всегда были того мнения, что неудачный чиновничий контроль может испортить все дело народного образования, которое у нас только начинает приниматься. Какой-нибудь визитатор налетит, подобно ястребу, на робкий кружок безгласных провинциальных педагогов, и чем сам незначительнее он чином и беднее смыслом, тем более захочет выставить на показ значительность своей особы и своего педагогического авторитета. Разве не бывали подобные случаи? Положим, какой-нибудь муж посещает в провинции школы: куда ни придет, смотрит, чисты ли руки и тетради у воспитанников, долбят ли грамматику по руководствам, оказывают ли должное чинопочитание к его случайно выдавшейся особе. «Развитие! Что вы мне толкуете о развитии? А вы мне покажите, что воспитанники знают по предписанной книге». Так он выражался о преподавании и распекал, распекал в свою сласть педагогов, крича на малейшее их поползновение оправдаться: «Да знаете ли вы, кто я? Да понимаете ли, какое расстояние между вами и мною?» и проч. Пришел он в одну бедную частную школу, где сидело до 10 беднейших десятилетних мальчиков и девочек вместе. Ее содержательница, бедная женщина, жила в двух небольших комнатах: в одной помещалась сама, другую оставляла для класса; в такие школы родители обыкновенно платят за обучение не более полтинника в месяц и бывают довольны, хоть и скудною наукою, но доставляемою по их средствам. Пришел визитатор и, совсем не обратив внимание на учение, грозно вопросил: «Что это такое?» – «Школа, – робко ответила содержательница». – «Знаю, что школа, да читали ли вы устав?» Долго истязал он бедную женщину, указывая на статью устава, где сказано, что мальчики и девочки должны заниматься в разных комнатах, и в заключение стал тешиться над бедными детьми, указывая на разные недостатки их костюма и грубо обращаясь к каждому со словом ты. Так разогнал он все частные, неофициальные школки. Скажите на милость, если только это правда (а судя по всеобщей молве о характере означенного лица, трудно в этом сомневаться), скажите на милость, какая могла бы быть цель в подобном искоренении школ? Много их у нас, что ли? Да были бы еще содержателями их какие-нибудь злонамеренные или развратные люди! А то запрещают учить какой-нибудь мелкой чиновнице-вдове, грамотной мещанке, иногда очень доброй женщине, к которой родители имеют полное доверие, что она хорошо присмотрит за их детьми, запрещают потому, что эти лица не обладают законным свидетельством, между тем наука в этих школах ограничивается одною грамотою: во многих не учат даже первым правилам арифметики. Вреда эти неофициальные, маленькие школы не могут принести никакого, а в гонении на них вред страшный! Этим наперед будет разрушено всякое доверие общества к будущим попыткам правительства в образовании народа. Частные школки будут существовать по-прежнему под покровительством общества, а официальные училища, как бы хорошо они ни были устроены, останутся пусты. При настоящих изменениях в училищном уставе особенно важно обратить внимание на свободную частную инициативу, на существующие факты. Вы, например, требуете, чтобы после 10 лет мальчики в обучении были непременно отделены от девочек; но это еще вопрос не решенный. Спросите, как смотрит на это народ, узнайте на деле, произойдет ли действительно вред для нравственности, если и 12-летние дети будут сидеть вместе. В крестьянском быту дети обоего пола без всякого присмотра постоянно играют или работают вместе, а в школе под присмотром учителя они будут разделены! Да и какого требовать разделения от бедной одноклассной школы? Довольно, если дети будут сидеть на разных скамейках. Всем известно, какое страшное недоверие имеет народ ко всяким казенным училищам, и потому при новом устройстве школ более всего нужно позаботиться о том, чтобы снова не напугать, а убедить его. Устройте хоть несколько образцовых школ, согласно с его потребностями, заставьте его убедиться в их превосходстве – и вот единственный путь, которым вы и частные школы принудите следовать вашему образцу: не чиновничье усердие, а только искусная педагогическая деятельность могут поправить все дело.
Брошюра г-на Щербины прямо наводит нас на вопрос о народной нравственности, которой жалкое состояние, сколько мы могли понять, он находит единственно в том, что народ не умеет правильно читать молитвы. Г-н Беллюстин посвятил этому предмету особую статью[3]. Цель его доказать необходимость религиозного элемента в воспитании. Тут, кажется, нет ничего нового: самые известные педагоги в Европе много об этом толковали; во всех программах общеобразовательных училищ это заявлено, и Евангелие переводится на все языки, на все наречия. Между тем г-н Беллюстин рассуждает так, как будто он первый в мире открыл, что религиозное образование необходимо, а все остальные люди, и особенно те, которые вкусили европейской науки, заклятые безбожники. Он в этом случае похож на пустынника, который в какой-нибудь трущобе долго предавался разным выспренним созерцаниям, потом вдруг появился в свет, увидел телеграфы, железные дороги, людей, которые хлопочут о своих житейских делах, – и удивляется, почему все до одного не заняты его выспренними созерцаниями. Г-н Беллюстин думает, что от большинства печатных органов науки и литературы не услышит милостивого слова за свои мнения, «но, – продолжает он, – мы в своем праве высказывать со всею искренностию свои убеждения, мало заботясь о том, как отнесется к ним тот или другой господин» (с. 241). Никому не придет в голову отнимать у г-на Беллюстина права высказывать, что ему угодно; но, к сожалению, в его многоглаголанье мы не находим именно того, что называют определенным и. твердым убеждением: у него есть только самородные мнения, доказывающие особый склад ума, развитого не совсем нормально. Если г-н Беллюстин укажет на свое положение: «Религиозный элемент есть основной камень всякого образования и воспитания», – то здесь всего важнее знать, что он под этим разумеет и какие из этого делает выводы. Он, например, в своих доказательствах приводит авторитет Платона, Цицерона и Сенеки; он мог бы еще привести в пример китайских и индийских философов; но нельзя же на этом основании думать, что мы должны быть религиозны по-римски или по-китайски и индийски. В чем же состоят так называемые убеждения автора? Он начинает с того, что упоминает о несчастном направлении молодого поколения. Что же это за несчастное направление? В чем и где вы его видели? Вы об этом прямо не говорите, несмотря на ваше обещание быть искренним, а пускаетесь в ребяческие толки об отрицании, о базаровщине и, сами того не замечая, являетесь опаснейшим нигилистом, который под видом усердия к религии отвергает нравственную основу во всей современной науке. Вы знаете христианскую истину: «возлюби господа бога твоего всем сердцем»; но было время, когда, ради этой истины, жарили евреев на раскаленном железе и вытягивали им жилы. Скажите, отчего же это так было? Ведь христианство всегда проповедовало милосердие и кротость. Отчего же прежде так худо понимали дух христианства? Если вы обвиняете настоящее молодое поколение, то сперва докажите, что оно хуже своих отцов и предков, докажите, что большинство его состоит из Митрофанушек, Молчалиных, Загорецких и Репетиловых. Ведь прошлое перед вами: вы будете или слепым фанатиком, или недобросовестным человеком, если не признаете за нашим веком заметного нравственного успеха. Во всяком случае, вам следовало бы сначала сколько-нибудь узнать тех, кого вы обвиняете; но вы, кажется, и судите о них только по некоторым журнальным толкам, да по одному или двум неразъясненным фактам.
Г-н Беллюстин доказывает, что если бы все законоучители были проникнуты святостью своего дела и умели вести его разумно, то и тут не были бы в состоянии ничего сделать: начало зла в семье, которую настоящий век со всех сторон подкапывает своими доктринами и правами (с. 239–242). Вот первое утверждение нашего нового нигилиста. Где же он нашел это подкапыванье под семью? В Европе, что ли? Но там семья процветает как нельзя лучше, и, конечно, и у немцев и англичан менее встретите тех грубых примеров семейного насилия, деспотизма и разврата, какие на каждом шагу представляются у нас. В Европе многие восставали и восстают против известного положения семьи в государстве, против разных, несвободных отношений между ее членами; но это делалось, хорошо ли, худо ли, все с одною целью – возвысить ее нравственное значение. Только иезуитские проповедники думали оторвать детей от семьи, обвиняя отцов и матерей в рационализме: они одни и были истинными разрушителями семейства. Г-н Беллюстин также много говорит о матерях «без веры, без символа, без убеждения», одинаких с Руссо и Вольтером, – об отцах, скептиках, деистах, пантеистах, гуманитариях, которые, по его словам, ругаются над религией (с. 269). При этих нападках, так и вспоминаешь себе времена Фамусова и Хлестовой. Г-н Беллюстин, не шутя, думает, что можно заставить всех верить и думать одинаково, что при самом строгом последо-вании догмату не будет бесконечного разнообразия в деле веры, как в личном чувстве каждого. Взгляните на наш простой народ, на наших раскольников: напоены они что ли зловредными учениями Руссо и Вольтера? Но вы сами вооружаетесь против ханжества и мракобесия (с. 285), а между тем не верите в прогрессивную силу образования, уничтожающего вредные и для религии предрассудки. Вы не сознаете, что сами уже волею-неволею подчинились влиянию науки, против которой восстаете: вы готовы думать, что отрицание и сомнение ведут только к разврату, однако не утверждаете же, что того, кто отрицает, бесы потянут в преисподнюю. Впрочем, мы не думаем с вами спорить из-за мнений Руссо и Вольтера, о которых могли состязаться только старички «времен очаковских и покоренья Крыма», а желаем хоть кратко просмотреть ваши мысли о воспитании.
«Человек», по словам г-на Беллюстина, «родится поврежденным». Воспитание требует разных мер строгости, дисциплины, чтоб его исправить. Прогресс состоит в борьбе с прирожденным злом. Цивилизация со всеми железными дорогами и телеграфами ничтожна без стремления к небу и к бесконечному (с. 252), и события последнего времени ясно убеждают в безусловной необходимости религиозного воспитания (с. 260). Современные специалисты науки и знаменитости литературы не всегда владеют сокровищем здравого смысла: профессора развивают одно безбожие (с. 264, 274). Но г-н Беллюстин знает, как исправить все зло. Для этого не нужно допускать, чтобы дети о чем-нибудь рассуждали или что-нибудь отрицали. Всякое отрицание (хоть бы самой крайней нелепости, услышанной где-нибудь ребенком) поведет к нигилизму; рассуждение рождает скептицизм. Г-н Беллюстин признает один возможный путь в воспитании – влияние авторитета. Действуя чрез авторитет, вы спасете воспитанника от всех колебаний сомнения и сделаете его счастливым. В обучении прежде всего необходимо сказать ребенку имя, которое показывает предмет; только этим средством можно довести его до сознания идеи (с. 265). Весь принцип воспитания заключается в словах: «верь, потому что я говорю; утверждай, потому что я утверждаю». Вот сущность мнений г-на Беллюстина, сколько мы могли понять в этом хаосе толков о Руссо, о нигилизме, о христианстве и о каких-то философских системах, которых у нас никто ведать не ведает. Автор, не шутя, полагает, что философские воззрения отравляют у нас развитие юношей и даже детей. Несмотря на всю ложность направления, это еще доказывало бы высший уровень нравственных идей в нашем обществе. Но взгляните, велик ли наш образованный круг, и в этом кругу много ли лиц, действительно стоящих за какую-нибудь, хотя бы и ложную идею. Большинство оставляет детей на произвол мамок, гувернанток, заботясь только об их питании и о том, чтоб они бессмысленно исполняли разные приличия или обряды. В бедной чиновничьей среде родители часто не имеют возможности позаботиться не только о нравственном развитии, но и об обыкновенном уходе за детьми; купцы еще следуют правилам Домостроя, в помещичьем быту до новейшего времени маленькие дети развивались большею частью под влиянием дворни, и т. п. Только в юношеском возрасте наука, воспринятая большей частью случайно, без руководителя и без строгой системы, дала многим средства выйти из того грубого, апатического состояния, в котором пребывали отцы и деды. Но как ни мало развивалась еще у нас наука, она уже успела возбудить многие нравственные интересы, и нападать на нее уж никак не идет защитникам нравственности. С другой стороны, эта недостаточность знания была причиною того, что у нас громогласно высказываются мысли, подобные суждениям г-на Беллюстина, который думает дать новый взгляд на дело, давным-давно решенное, о котором никто уже более не спорит. Вопрос о воспитании настолько решен, что в нем определено место и авторитету, и самодеятельности учащихся. Видя одну испорченность в человеческой природе, какими же силами воспользуетесь вы, чтоб настроить душу к добру? Ведь из гнилого материала нельзя ничего строить. Меры строгости, дисциплины – вот в чем одном находите вы спасение. Объяснять ли вам, что, не дав свободы высказываться природе, вы даже не узнаете, как наложить ваши дисциплинарные меры? Вы уничтожаете всякое отрицание и сомнение, первые условия свободной мысли, и хотите создать нравственного человека по одному слову авторитета. Но так воспитывая, вы имеете в виду или совершенно глупого ребенка, или думаете запереть вашего питомца в каком-нибудь глухом лесу, удалив его от всякого сближения с людьми; да и тут природа возбудит в нем тысячи мыслей, противоречий, вопросов. Как же вы скажете ему: «Не рассуждай, а верь только тому, что я говорю тебе?» Неужели вы думаете, что при подобном заявлении авторитета он вам поверит? Не познакомив с предметом, не возбудив ни одной мысли, вы даете ребенку название, т. е. звук без содержания, уверяя, что этот звук возбудит в нем идею. Скажите, какого это кабалистического учения держитесь вы сами, что находите в звуке таинственную, сверхъестественную силу? Но нам совестно серьезно опровергать подобные мысли. Мы и не сказали бы ни слова о статье г-на Беллюстина, если бы ее резкий, назойливый тон не показывал непомерной гордыни и не противоречил совершенно духу той христианской нравственности, которую он взялся защищать.
Сноски
1
Заметки об училищах и народном образовании в Ярославской губернии. – Журнал Министерства народного просвещения, январь, 1863.
2
Брошюра «О народной грамотности и устройстве возможного просвещения в народе». СПб., 1863.
3
Религия в деле воспитания и образования. – Журнал Министерства народного просвещения, февраль, 1863.