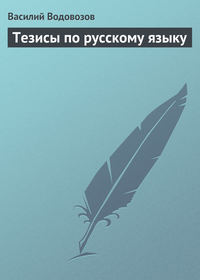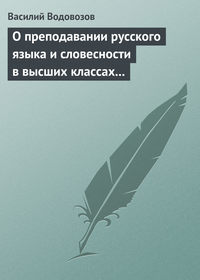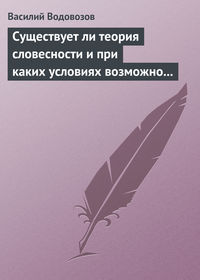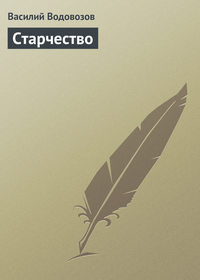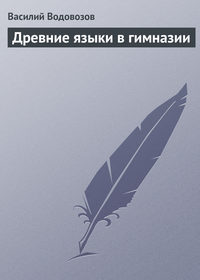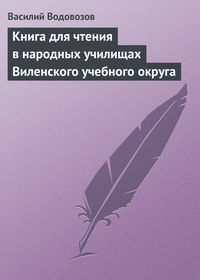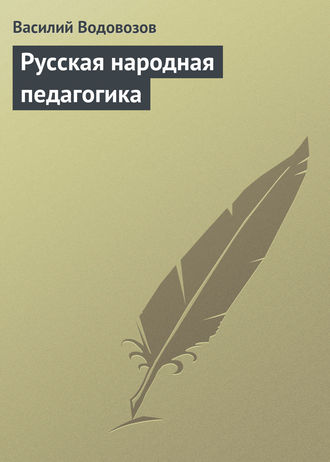 полная версия
полная версияРусская народная педагогика
Скажем в заключение о «Хрестоматии», изданной Московским обществом для распространения полезных книг. Главное ее достоинство, без сомнения, необыкновенная дешевизна (30 коп. за книгу почти в 22 печатных листа). Статьи также большей частью прекрасны, но, надо сказать правду, совсем не приспособлены к народному чтению. Мы вовсе не хотим этим сказать, что для народа нужно создавать особый язык, подделываться под его тон и манеру: такие подделки редко бывают удачны, и сам народ обыкновенно смотрит на них, как на гаерство. Но всегда можно желать в книге, назначенной для народа, той простоты слога и живости рассказа, какой требует человек малограмотный. Более легкие из статей, помещенных в «Хрестоматии», никак не легче тех, какие пишутся известным у нас детским писателем г-ном Разиным, а статьи г-на Разина (мне случалось это узнать на опыте) очень туго понимаются грамотными людьми из простого класса. Книга, по богатству своего материала, может с большою пользою служить для преподавателей, которые будут избирать из нее темы для рассказов, а некоторые более легкие отрывки задавать ученикам прочитывать. Войдем в некоторые подробности, чтоб подтвердить сказанное. На первых 48 страницах помещены, как водится, статьи духовного содержания: сначала притчи Соломона, требующие немало толкований, например: «Сребро разженное язык праведного: сердце же нечестивого исчезнет»; потом более понятные поучения Иннокентия Борисова и Родиона Путятина. Статьи из русской истории занимают также 48 страниц. Они взяты из переложения летописей г-на Соловьева, из Карамзина и г-на Иловайского. Тут выступают Святослав, Владимир 1, Дмитрий Донской, Иоанн Грозный и Лжедимитрий. Легче всего, конечно, близкий к летописи рассказ Соловьева. Рассказ Карамзина о Куликовской битве слишком изобилует собственными именами и написан под влиянием книжных сказаний XIV и XV веков. Дельные рассказы г-на Иловайского не предназначены для народа, но могут быть читаны более успевшими в грамоте под руководством учителя, которому придется объяснять некоторые выражения, например, «Внутри России господствовала мрачная эпоха опал и казней». Отдел исторический, конечно, мог бы быть побогаче, но спасибо и за то, что есть. В книгах для исторического чтения у нас совершенный недостаток: продается, например, книжонка дяди Афанасия (не тот ли это дядя, которого учил грамоте Семен, только под другим именем?). В ней изложена вся русская история, начиная с сотворения мира. Когда после столпотворения вавилонского смешались языки, произошла и Русь, а у славян, почитай, было только три города: Ладога, Новгород и Киев; в голове-то у них не было толку, чтоб дать порядок, они и порешили искать себе законной власти. Рюрик сел на княжеском престоле, а братья его стали простыми боярами; соседние народцы, разные этакие бродяги, поприсмирели; сын Рюрика, Игорь, перенес столицу в Киев… Но мы не будем выписывать всех диковинок, какие есть в этой книжонке; мы о ней и не упоминали бы, если бы она не имела претензии быть русскою историею для простолюдинов. Особенно жалко видеть, как в подобных изданиях подделываются под народный тон: «французы и разная иноземная челядь – людишки – дрянцо, все это такое поджарое».
Третий отдел в «Хрестоматии» составляют «Жизнеописания достопамятных людей», занимающие 64 страницы: Филиппа, митрополита московского, патриарха Никона, Ломоносова и Кольцова.
– Против выбора этих лиц сказать нечего; но занимательны о них рассказы можно бы без большого труда упростить в слоге или хоть выкинуть подобные нерусские фразы: «Сердце Ломоносова разрывалось от ужасной превратности судьбы». Статья Белинского о Кольцове написана прекрасно, но, делая из нее извлечения, нельзя оставить всех выражений этого автора, которые понятны только вполне развитому человеку: «воспитание его предоставлено было природе», «удушливая атмосфера его домашней жизни», «Кольцов окунулся в омут довольно грязной действительности»; неправда ли, странно встречать подобные выражения в статьях, назначенных для народного чтения?
В четвертом отделе «Описания и рассказы путешественников» только статьи «Самарские степи» и «Саранча на южном берегу Африки» могут возбудить кое-какой интерес в малограмотном человеке; в них есть рассказ о событии, которым поддерживается внимание. Заметим, что и дети, и простые люди любят описания различных стран, иноземных нравов и обычаев; но тут необходимо одно условие: в описании должна быть драма, живое столкновение обстоятельств, жизнь, выступающая в действии. В этом отношении они совершенно правы: в лучших путевых записках предметы являются не друг подле друга, как на выставке, а в том самом движении, какое встречаем мы повсюду в природе. Можно ли надеяться, что воспитанника не утомит помещенный в книге рассказ о Байкале, где с самою мелочною подробностью перечисляются острова, горы, ущелья, мысы, где перед вами вся топография озера: «Среди ущелья Ангара имеет в ширину до 450 сажен, значит, немного уже самого ущелья, которое там всего полторы версты шириною… далее к северо-востоку лежит большой остров Ольхон, отделяющийся от материка Ольхонскими воротами, т. е. проливом в три версты шириною» и почти все в том же роде. Между тем и из этого чисто ученого описания можно бы составить очень живую статейку.
Статьи по естественной истории, вслед за тем следующие, к сожалению, составляют самый слабый отдел книги.
В статье «Ласточка», взятой из «Журнала для детей», для большей живости описания приведены и стихи:
Затем, что в небе – вдохновенье,И в песнях есть избыток силИ горней воли упоеньеВ надоблачном размахе крыл.Но с этим упоеньем горней воли все-таки не улетишь далеко. Мне кажется, что статьи как по землеведению, так и по естественной истории, избранные для народного чтения, должны заключать не столько описание частных, мелких фактов, сколько общие характеристики местностей и более крупных явлений природы. Особенно, если выбор этих статей ограничен, всегда можно спросить, отчего, например, помещены рассказы о ласточке, о кукушке, а не о воробье, не об орле, не о вороне. Гораздо естественнее было бы встретить хоть живой рассказ о природе полярных стран, африканских степей, о пути по океану, о жизни полудиких народов и, в противоположность ей, популярное описание какой-нибудь цивилизованной местности; для характеристики России – хоть описание одной из хлебородных губерний, одной из приморских, описание сибирских тундр и лесов, Нижегородской ярмарки и проч. Для всего этого есть много готового материала и у лучших наш* х писателей.
По естествознанию можно избрать факты, которые осмысливают явления природы, указывают на действующий в ней закон: образование цветка, жизнь насекомых и их превращения, свойства некоторых из наших домашних животных и т. д. Во всем этом можно указать самые яркие подробности, самые занимательные черты жизни и, кроме того, найти применение к нашим промыслам, к народному быту.
Последний отдел «Хрестоматии» составляет словесность в стихах и в прозе. Поэзия Пушкина здесь заявила себя великопостною молитвой: «Отцы пустынники и жены непорочны» и проч.; далее следуют: Бенедиктов, Хомяков, Глинка.
Стихи Хомякова, конечно, исполнены прекрасных мыслей; но многие в них места может понимать только воспитанник, привычный к метафорам, например:
К чему мне злато? В глубь земную,В утробу вековечных скал,Я влил, как воду дождевую,Огнем расплавленный металл:Он там кипит и рвется, сжатыйВ оковах темной глубины,А ваши серебро и златоЛишь всплеск той пламенной волны.Две пьесы Кольцова («Урожай», «Размышление поселянина»), «Нива» Майкова, «Школьник» Некрасова, басни Крылова также украшают сборник. Тут же и унылая «Песня бедняка» Жуковского, неизменная спутница всякой хрестоматии.
По части прозы не совсем удачно явился Загоскин со своим гражданином Мининым в карамзинской тоге; всего удачнее помещен рассказ дворового о соловьях, взятый из сочинений Тургенева: вот образчик истинно русского толкования природы! Если бы вся естественная история написана была таким слогом, то она, конечно, разошлась бы в народе. Не можем удержаться, чтоб не привести хоть одного отрывка в пример той краткости и живописи описания, какой мало находим в наших народных книгах. «У хорошего, нотного соловья оно еще вот как бывает, – начнет: тии-вить, а там: тук! Это оттолчкой называется. Потом опять – тии-вить… тук! тук! Два раза оттолчка – и вполудара, эдак лучше; в третий раз тии-вить – да как рассыплет вдруг дробью или раскатом – едва на ногах устоишь – обожжет! Эдакой соловей называется с ударом или с оттолчкой». Вот вам описание, после которого не нужно спрашивать, как делают наши педагоги: «Что такое соловей? что такое оттолчка? что значит петь?» и проч.
Займемся теперь отдельными брошюрами по части естествоведения, изданными для народа. Их немного. Главное место занимают полезные издания редакции журнала «Чтение для солдат». Брошюра под названием «Из природы», где толкуется о разных свойствах воды в виде дождя, града, инея и проч., написана довольно ясно и толково; но начинать ее надо с 14-й страницы. Перед этим идет рассуждение о том, что такое природа и искусство и что такое наука о природе. Сколько ни старался тут автор быть популярным, говоря об усовершенствованных плугах, о пароходах, о книгопечатании, сравнивая образованного хозяина с музыкантом, знающим ноты, все-таки это вступление самою сложностью предмета очень затруднит воспитанника. «Природа (естество, натура) – так называется все творение божие, все что мы видим и ощущаем вокруг нас и что создано не нашими руками и уменьем, а силою жизни или бытия, данной творцом всему его творению». К чему с первого разу запугивать учащихся подобными определениями? Расскажите сначала что-нибудь из природы, сведите факты в одну картину и потом скажите: вот это природа. У нас все считают необходимым начинать с детьми общими рассуждениями по старинной привычке; думают заохотить детей к учению, философски доказывая, как полезна наука. Да дайте сперва на самом деле почувствовать ее пользу, пусть само собою из ваших рассказов выйдет понятие о ее необходимости.
В популярной брошюре «О земле, солнце, луне и звездах» также признано за нужное сначала определить, «что такое география», потом – «что такое география математическая, физическая и политическая». Это тем страннее, что предмет изложен в разговорной форме, в виде беседы между его благородием, учителем (так называют его в книге), Климовым, Сидоровым и рекрутом, и вообще принят метод переходить от известного к неизвестному. Когда учитель велит запомнить слово «география», Климов говорит: «Запомнить-то может и запомним, да слово мудреное, сразу даже и выговорить трудно». Учитель заставляет твердить его хором, но уж о словах: «математический, физический, политический» он совсем не спрашивает. Мы обратили на это внимание, потому что, строго следуя брошюре, в иных школах могут не уйти далее второй страницы, все твердя мудреные названия. Разговорное изложение дает случай выказать метод. Ученики тут, конечно, являются самыми понятными, знают наперед, о чем следует говорить дальше, и задают именно такие вопросы, какие нужно. Учителю, хоть по книге, утешительно сказать: «Спасибо вам, братцы, за то, что постарались понять и не забываете». Но и самые объяснения довольно популярны. Учитель берет в пример стол, колесо, ядро, обруч с лоханки, чтоб показать, что такое «плоский, круглый, продолговатый»; лепит на пушечное ядро кусочек нитки, чтоб объяснить отношение высоких гор ко всему пространству Земли; для объяснения центра режет на восемь равных частей шар из глины; объясняет притяжение Земли, катая по опилкам деревянный шар, в середине которого находится магнит: опилки пристают и держатся на шаре, подобно тому как все предметы на Земле; наконец втыкает шомпол в тыкву и держит ее против свечки, показывая происхождение дня и ночи. Выражения тоже совсем популярные: «Ну, сам посуди, какую ты чушь несешь», – скажет порою учитель. – «Эх, брат, опять ты сгородил по-деревенски», – скажет один из учеников – только, конечно, не учителю. В середине книжки идет объяснение чертежей и разных земных линий, несколько трудноватое; но потом опять, объясняя движение Луны около Земли и вместо с нею около Солнца, учитель очень наглядно заставляет ученика своего вертеть вокруг головы пулю на нитке и идти с нею около стола. Из предыдущего ясно, что хотя эта брошюра, назначенная для обучения солдат, может и не понравиться некоторыми из педагогических приемов, все-таки составляет довольно удачный опыт популярного изложения. Мы остановились на ней долее и потому, что популярных изданий у нас так мало. Вот в другой брошюре: «О земле, воде и воздухе» тоже выведены разговаривающие лица, да учителю приходится говорить без устали; так только на минутку он переведет дух и спросит: «Ну, кто скажет, какая вода в реках?» или «Не знает ли кто из вас каких-нибудь озер в России?», и потом опять толкует, толкует… и кончает тем, что советует читать с толком. Сидоров с этим соглашается: «Точно так, ваше благородие, чем более вникаешь в смысл, тем более завлекает чтение». Сидоров сказал это из учтивости: чтение названной нами брошюры не очень завлекательно. Тут сначала перечисление частей физической географии и составных частей земного шара, потом перечисление почв, металлов и проч.; после краткого объяснения воздушной атмосферы следует перечисление материков, стран, перешейков, гор и т. д. Есть тут некоторые любопытные подробности о землетрясениях, о нефтяном газе и о других явлениях природы; все это теряется в скучном перечне предметов. Если брошюра назначалась для повторения собственных имен и некоторых прежде усвоенных фактов, то она, пожалуй, может идти в дело; но проходить географию таким образом нельзя.
Какая польза учащемуся знать о Гренландии, Мадагаскаре, Кубе, когда он с этими именами не соединяет никакого понятия? Лучше дать усвоить главнейшие названия, сообщив наперед, хотя и краткий, но живой рассказ о стране. Неизменным правилом должно быть при обучении начинающих, а тем более народа: не произносить ни одного собственного имени или технического названия, пока не будет вполне ясен предмет, его означающий.
«Беседы» Золотова в учебном, фехтовально-гимнастическом кадре также касаются науки о природе. У г-на Золотова тот главный недостаток, что в иных местах у него много объяснений, а мало фактов, а в других местах много фактов, а мало объяснений. Но вообще шесть книжек, составляющих «Беседы», написаны довольно популярно, хотя далеко не так просто, как брошюра «О Земле, Солнце, Луне и звездах». У г-на Золотова беспрестанно встречаются разглагольствия и отступления. Так и в первой брошюре, где говорится о шаровидности Земли и о морском пути вокруг нее, о лоте и компасе, – вначале находим очень нравоучительные, но чересчур выспренные рассуждения, например: «Как бы ни был потемней разум человеческий, он все-таки чувствует, что должно быть высшее существо, творец всего, причина всех причин». «Земля наша, как мы узнаем потом, подобна шару и ни на чем не утверждена, а по премудрости творца вселенной, по его неизменному закону, держится сама собой в неизмеримом воздушном пространстве». Если приводить такие научные доказательства, то далее и объяснять нечего, одним этим уж все решено и доказано! Далее в том же роде автор говорит о землетрясениях, доказывая, что не рыба-кит трясет Землю, а «отчего происходит землетрясение, о том речь впереди». Впрочем, круглота Земли истолкована довольно ясно. Вторая книжка «Бесед» заключает преимущественно умственные рассматривания; тут говорится и о нашем подобии с господом, и о человечестве, и о том, что наши мысли расходятся по лицу Земли, словно лучи солнца. Но тут же есть и хорошие наставления и рассказы, направленные против суеверий. Рассказано, как мужик зашел в избу, где лежал покойник. Не застав никого в избе, он плотно позавтракал тем, что нашел в печи, подпил и вздумал подшутить над «покойником: вымазал ему бороду и лицо сметаной и выставил его в оконницу. Через час явилась старуха, ходившая созывать мирян на тризну; все, как увидели лихое дело, сочли покойника за колдуна, зарыли его в лесу без погребения. Автор, кажется, смотрит на рассказы, как на развлечение, помещает их между прочим, после сухих толкований, чтобы отвести душу; но, нет сомнения, что рассказы, разумеется, прибранные подельнее, должны постепенно вести к объяснению науки, заключая в себе наглядное применение одного из ее законов. Пустые повести не идут к делу, но так же неуместны и ученые истории о том, «как всех взволновала смелая истина, высказанная простым каноником Коперником (см. Беседу IV о движении Земли), или о том, о каких кометах летописцы упоминали за 2272 года до Р. X. (Беседа VIII), или как у греков и римлян луна называлась Дианой, когда они не были озарены откровением господа, и почему собаки называются дианками (см. Беседу V). Мы не будем подробно разбирать всего, что есть в остальных Беседах. Укажем только еще на некоторые недостатки. Объяснения часто очень мудрены и отвлеченны, как, например, о притяжении Земли: «Притягательную силу имеет не только Солнце, имеют ее и все тела земные и каждая отдельная частица Земли; этой силой они действуют взаимно друг на друга, так что каждая вещественная частица притягивает к себе всякую другую вещественную частицу» (Беседа III, стр. 13), или о дневном свете, где слишком хитро толкуется об отражении и преломлении лучей. Кроме того, автор порою толкует многословно об одном и том же, а порою вдруг нагромоздит до десяти самых трудных вопросов; так, в Беседе III на каких-нибудь двадцати крошечных страничках он думает объяснить и магнитную силу, и электричество, и телеграфы, и состав Солнца, и греческого бога Аполлона, и что такое театр, и как доходят до нас лучи Солнца, и пятна на Солнце и даггеротипы. Г-н Золотов по рисункам излагает все линии земного глобуса, так же как фазисы луны; эти толкования немногим отличаются от тех, какие находим во всех наших географиях; например: «Если представим себе как бы площадь, по которой Земля при своем вращательном движении поступает вперед, то ось ее при этом поступлении находится не в прямом отвесном положении к этой площади, а одним концом наклонена к ней» (Беседа IV, с. 30). Рисунки, однако, очень отчетливы (белое на черном). Итак, «Беседы» Золотова еще далеко не достигают своей цели; но так как в них есть некоторые удачные попытки популярного изложения, то они могут быть полезны для преподавателей при нашей совершенной бедности в книгах подобного рода. Цена их довольно умеренная: за все шесть книжечек 58 коп.
В числе книг, назначенных для воскресных школ, встречаем: «Понятия Гопкинса о народном хозяйстве», перевод с английского. Здесь в занимательных сказках и разговорах изложены основания политической экономии. Но книга эта, к сожалению, имеет исключительное применение к английскому быту. Некоторые рассказы, впрочем, могли бы быть прочитаны с пользой и в наших школах, особенно прекрасная повесть о трех богатырях, где являются великаны: Самотек, Ветрило и Паровик. Они чудесным образом помогают жителям одной деревни, заводя там всевозможные фабрики и производства, но потом эти чудеса оказываются простыми силами воды, ветра и пара.
Редакции журнала «Чтение для солдат» мы обязаны еще изданием хороших брошюр под названием «Рассказы странствователя по замечательным местам России». Здесь также нередко находим утомительный перечень имен, но есть и завлекательные подробности. Лучше всех брошюра, где описан Северный край. На постоялом дворе извозчики и торговцы из разных губерний беседуют между собой и в этой беседе незаметно сообщают любопытные сведения. Особенно хорошо описание северных зверей и их лова. «Важнейший этой породы зверь – морж, рыжий весь, голова пребольшущая; на морде щетина сидит, шея в бревно, в плечах широкий, да грудистый такой, красные глаза так и ходят; на груди же у него перепончатые лапы, ластами называются, и когти острые, у рыла-то клыки. Таковой морж одного сала-то дает до пятнадцати пудов; кожа идет на ремни, самые они крепчайшие, мелкое зубье на костяные поделки, а клыки, что твоя кость слоновая, и на дорогое изделие; в паре клыков будет с полпуда». А вот описание белого медведя: «У!.. силен он, крепко силен! Острорылый такой, когтищи длиннейшие… Лежит себе на льдинке, нырнет в воду за рыбкой, да и опять такой сиротинкой-горемыкой уляжется, или, как думу крепкую думает, стоит на льдине-то, да из стороны в сторону покачивается, а как где только увидит моржа, тоже неженку, на залежке, сейчас и на обман – крадется ползком да и норовит запустить когтищи свои в сальный зашеек – тут и порешит его! Хитрая и злостная бестия! Ревун такой!..»
В рассказе о Московской и Тульской губерниях главное место занимает описание Москвы. Оно напоминает обыкновенные перечни гидов, например: «Дворец несколько раз перестраивался, наконец после пожара московского, в двенадцатом году, был наскоро отделан для приезда блаженной памяти императора Александра – с полудеревянной и полукаменной надстройкой верхнего этажа; здание это было ветхо, а потому покойный император Николай Павлович приказал отстроить новый дворец» и проч. Мы думаем, что напрасно было перечислять все, что есть в Москве замечательного, а взять бы хоть один Кремль, да в общих, крупных чертах обрисовать его историческое значение. В брошюре о Московской и Тульской губерниях лучше всего выведена частная личность служивого Терентьева, который не соглашается никаких услуг принимать даром.
Третий рассказ о Петербургской губернии, или, лучше сказать, об одном Петербурге, особенно богат картинками; тут приложены изображения Исаакиевского собора, домика Петра Великого, Летнего сада, Аничкова моста, монументов: Александру I, Петру Великому, Николаю I и всем полководцам. В самом описании есть любопытные подробности, но пространное толкование обо всех памятниках, наконец, наводит смертную скуку. «Странствователь по Финляндии» также довольно скуп на занимательные рассказы.
Говорить ли нам о книгах для народа, писанных с нравоучительной целью? Кто виноват в том, что и добрые наставления, иногда в них высказанные, пропадут даром, что читать их невозможно с головой, одаренной обыкновенным человеческим смыслом? Мораль в них не исходит от сердца, а большею частью доказывается вялыми сентенциями, которые напоминают детские упражнения, вынужденные школьными наказаниями; из-под густой паутины хрий и силлогизмов не видно, шевелится ли в этом коконе хоть что-нибудь живое. Вот, например, автор брошюры «В свободный день ремесленнику и фабричному», конечно, имеет добрые цели: он советует фабричным посещать воскресные школы, не читать пустых книг с заманчивыми заглавиями, а обращаться за ними к кому-нибудь из служащих в учебном заведении; но как он обо всем этом трактует? «Я указал уже на тот основной закон, что все мы, как и писание учит, должны искупать время. Это значит, что наше обращение с свободным временем, когда отдыхаем от труда, в особенности должно быть подчинено внимательному расчету, подобно делу купли и продажи», и проч. Если бы вы с намерением искали слов, чтоб выразиться мудренее, то вряд ли что-нибудь придумали бы затейливее этого. И между тем в книжке есть притязания на популярность: «Хорошо, в известные часы, играть и веселиться в своем кругу, по-своему, близ дома. Для отрады, успокоения и благонастроения духа, часто бывает пригодна и песня ваша, и гармоника (что за доброта души! автор позволяет играть на гармонике). Но учись находить и еще лучшее для себя (а что же это такое?), что просвещенная заботливость правительства хочет доставить тебе чрез учреждаемые, по временам, народные гулянья. А когда, в хорошую летнюю пору, добрые и чинные товарищи зовут тебя просто побродить за городом (а то как еще?), в поле или в лесу (какая точность и обстоятельность!), не отказывайся лениво и грубо, говоря: «чего я там не видал» (какие мудрые правила! какая глубина и благонастроенность!). Приучайся различать вкус и находить услаждение не в пиве только, не в одних пряниках и орехах (вот уж этого не ожидали! После таких возвышенных истин вдруг о пряниках и орехах!). Есть у нас еще разные беседы с православными мужичками: один мирянин беседует с ними по случаю освобождения крестьян. Он с особенною нежностью рисует отеческую заботливость помещиков о поселянах: «К кому приносят неопытные матери больных младенцев, как не к чадолюбивой барыне, и та лечит малюток, имея под рукой нужные лекарства!» Но сам автор не безвозмездно дает наставления народу: его книжонка в десять крохотных страничек стоит все-таки 10 коп.
Мы рассмотрели почти все главные сочинения, какие в последнее время вышли по части народной науки; прибавим сюда еще книги, имеющие предметом исключительно сельское хозяйство и сельскую медицину: «Опыт» Зеленого и «Сельские Беседы» Трусова. Книга Трусова несравненно полнее по содержанию и популярнее по изложению; но зато и цена ее недоступна для большинства народа (1 руб. сер.).
Теперь нам остается заняться народною беллетристикою, повестями, написанными для простого класса. В этом отношении г-н Погосский приобрел наибольшую известность. Его рассказы: «Посестра Танька», «Дедушка Назарыч», «Сибирлетка» и некоторые другие отличаются и знанием солдатского быта, и прекрасным, благородным направлением. К сожалению, они назначены преимущественно для чтения солдат, и в других классах народа не все, что в них заключается, может возбудить сочувствие или быть как следует понято. Этого мы не думаем вменять в недостаток г-ну Погосскому: таково свойство его таланта; но нельзя не пожалеть, что литература наша так бедна народными повестями, несмотря на то, что в последнее время явилось столько знатоков простонародного быта. У г-на Погосского есть другие недостатки. Желая всюду проводить гуманные идеи, он уж чересчур идеализирует солдатский быт: солдат у него почти всегда и во всем счастлив и доволен; если порою и приходится ему жаловаться на судьбу, так и тут в виде розовой мечты слетает какое-нибудь утешение. Поднять из ничтожества и восстановить во всей простой, неподдельной красоте человеческую личность, возбудить как можно более участия к бедному, загнанному человеку, конечно, цель в высшей степени благородная; но если нет другого средства достигнуть этого, как путем идиллии и идиллии, то, естественно, мы впадаем наконец в сентиментальность, которая немножко вредит правде. В своей идиллии г-н Погосский иногда доходит и до возвеличения грубой, кулачной силы. Это очень жаль. Он также не всегда кстати пользуется народными поверьями и преданиями. Если б лица, воспитанные на салонной болтовне и французских романах, осудили слог этих повестей за некоторые грубые выражения, а их содержание за низкие предметы, в них описываемые (а таких щепетильных лиц найдется не мало между просветителями народа), то мы посоветуем им не браться не за свое дело, не искать в воскресных школах милых Машенек и Петенек, какие встречаются в глупых детских книжонках. Слог повестей г-на Погосского прост, как природа, им изображаемая; в нем иногда выражения не довольно типичны, но нет той грубости, которая обличает одну бессмысленную подделку под народность.