
Полная версия
Сочинитель, жантийом и франт. Что он делал. Кем хотел быть. Каким он был среди друзей

Мариан Ткачёв
Сочинитель, жантийом и франт. Что он делал. Кем хотел быть. Каким он был среди друзей
Предисловие от составителя
В этой книге, посвященной памяти нашего друга – великого знатока вьетнамского языка и культуры, переводчика и писателя Мариана Николаевича Ткачёва, есть три раздела и «Вступление от героя (собственноручное)».
Первый раздел «Что он делал» составили статьи, написанные им в разные годы к вьетнамским книгам разных веков и авторов, свидетели его глубокого и сердечного знания вьетнамской истории, культуры, литературы.
Второй раздел «Кем хотел быть» – написанные им рассказы, собранные когда-то под одну американскую обложку его уехавшими друзьями, с предисловием Натаныча – великого Стругацкого старшего. Эти рассказы могут подтвердить, что, как у всякого замечательного переводчика, на дне ткачёвской души теплилась надежда: не только переводить, но и писать самому – тоска по своей, и только по своей, литературной делянке.
И третий раздел – «Каким он был среди друзей», где собраны воспоминания о нем его друзей, учеников и даже детей друзей.
Чтобы читателю легче было ориентироваться в хитросплетениях ткачёвских отношений, дружб и противостояний с людьми и миром – маленькая биографическая справка.
Одесско-кишиневское детство и юность. Оттуда четыре персонажа этих воспоминаний: Боря Бирбраир, Саша Калина, Леня Спекторов и доктор Табак. Двое из них, слава богу, живы. Из одного – Бирбраира – даже удалось добыть крупицу воспоминаний, и я счел возможным с нее начать третий раздел. Второй – Сашка, он же Шурик Калина, – прогарцевав по чужим воспоминаниям, своих воспоминаний не написал, по инженерно-научной своей ограниченности. Зато, по американской своей состоятельности взял на себя финансовое обеспечение и этого постткачёвского проекта. Правда, в последнюю минуту он дал нам важную биографическую справку, которую мы приводим как комментарии к воспоминаниям Левы Бирбраира.
Далее идет переезд в Москву, учеба на истфаке МГУ, работа во вьетнамском интернате и приход в университет уже в качестве ментора. Эта часть ткачёвской биографии отразилась в воспоминаниях Теда (Теодора) Гладкова и Фам Винь Кы, или просто Кы, ткачёвского выпестованника из того самого интерната, а ныне выдающегося вьетнамского специалиста по русской литературе.
Затем следует недолгое, но оставившее сильное впечатление у студентов преподавание Ткачёва в Институте восточных языков при МГУ, о чем – в воспоминаниях его учеников разных лет Сережи Афонина, Жени Кобелева и Саши Минеева, употребляю их домашние имена, поскольку и сам учился в те годы в ИВЯ при МГУ, правда, по другой языковой специальности.
Цедеэльское время Иностранной комиссии при Союзе писателей и многочисленные поездки во Вьетнам представлены текстами известных литераторов Аркадия Михайловича Арканова, соседа по писательскому дому на Малой Грузинской, автора бессмертного шедевра «Большая перемена» Жоры Садовникова и заметками соучастника многочисленных вьетнамских эскапад Ткачёва, его спутников и друзей – генерала от известинской журналистики Мишеля Ильинского.
Об остальном – коротко в воспоминаниях художественного руководителя театра «Эрмитаж» Михаила Левитина и – довольно длинно – в тексте вашего покорного слуги.
Заканчивается этот раздел мемориями человека совершенно другого поколения, хотя, на мой взгляд, интересны они совсем не этим. У Бори Бирбраира, дольше всех нас дружившего и бранившегося с Ткачёвым, есть сын – ныне благополучный бразильский математик – Лева. У него-то по электронной почте мною выцыганены воспоминания, особо для меня ценные уже в силу того, что к другому представителю этого же поколения – Александру Мариановичу Ткачёву – я, по изложенным в воспоминаниях причинам, обращаться не мог.
Просматривая ткачёвские материалы, собранные и сохраненные не упомянутым еще, но помогавшим собирать эту книгу Игорем Левиным, я натолкнулся на одно из любимых ткачёвских хулиганств, на которые он беззаветно тратил время, бумагу и талант, – посвящения друзьям. В данном случае – не раз встречающемуся на этих страницах Володе Брагину. В этом посвящении он представил и тех, кто много лет спустя напишет о нем в этой книге, и тех, кто уже никогда этого не сделает. Но это ткачёвский стиль, ткачёвский юмор – его любимая стратагема – пусть он представляет нас – так мы решили, составляя эту книгу.
Вот, собственно, и всё!
Алексей Симонов
Вступление от героя (собственноручное)
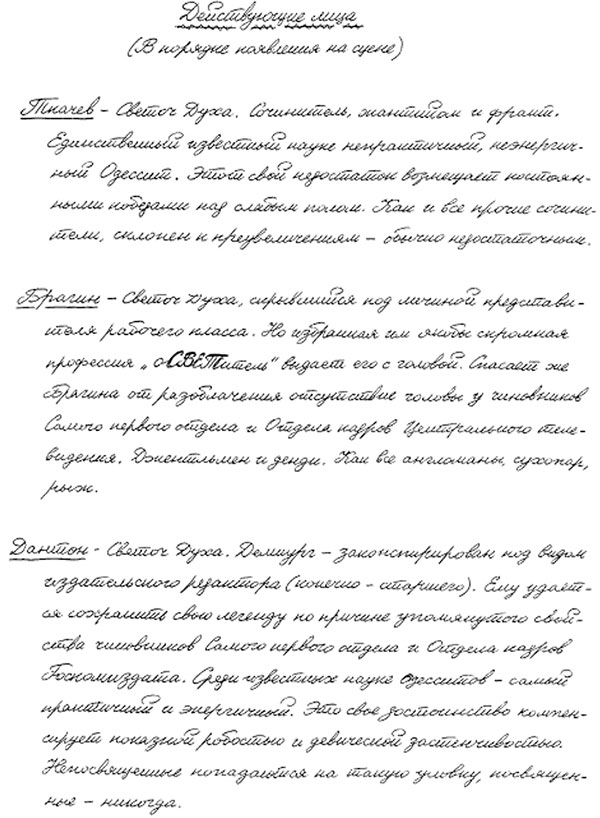
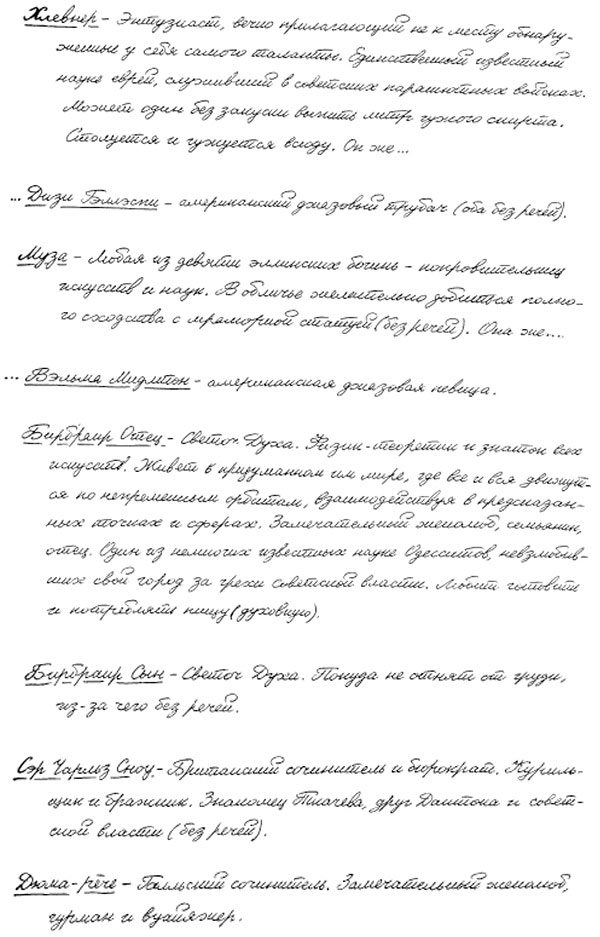
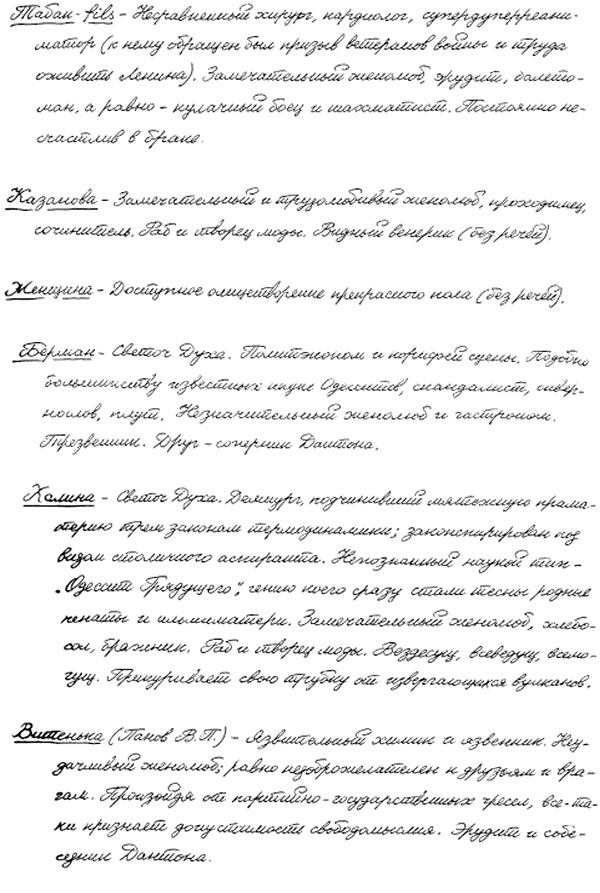
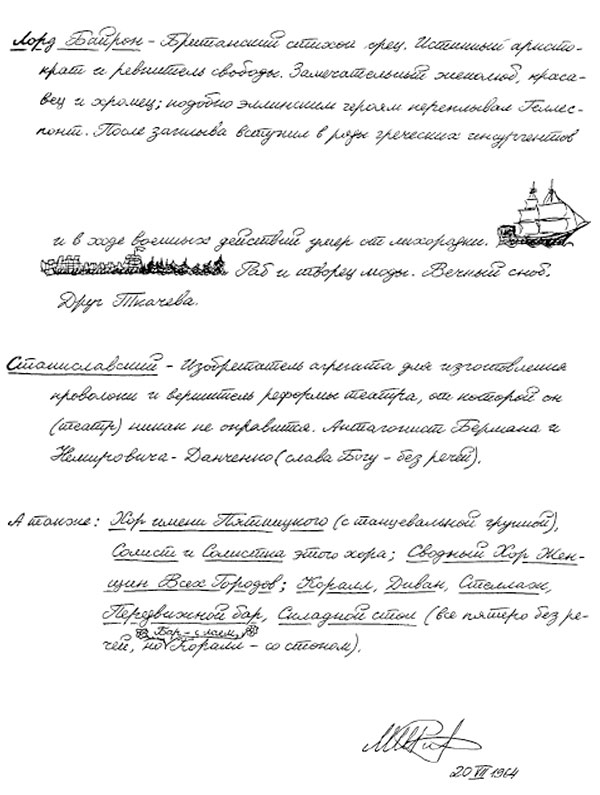
Что он делал
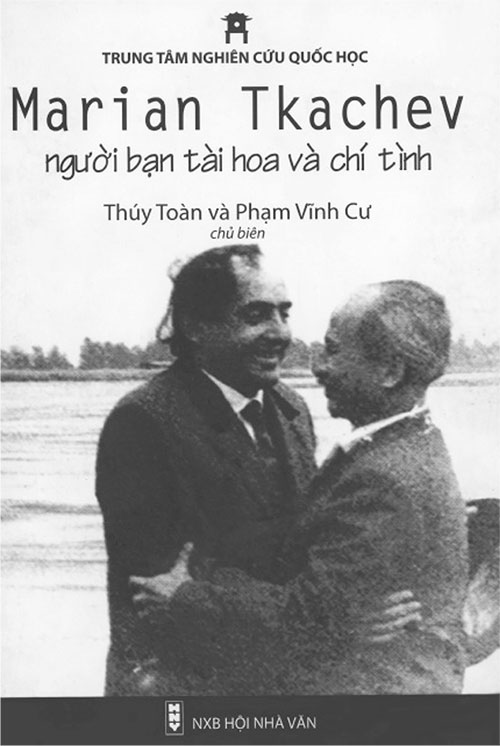
Из современной вьетнамской поэзии
…Я подметил, что всюду – в Ханое ли, шумящем вокруг озер, или в Хайфоне, где каждая улица, как и в побратиме Хайфона – Одессе, ведет счет домам от моря, или в кофейном госхозе «Донгзиао» – и дети, и взрослые, едва превзойдя азбуку, принимались читать и учить наизусть стихи. И не какие-нибудь рифмованные тексты из букварей, а настоящие, хорошие стихи хороших поэтов. Причем учили отнюдь не в порядке школьных заданий.
Когда я расспрашивал их об этом, они, застенчиво улыбаясь, отвечали примерно одно и то же: мол, очень любят стихи и просто хотят их знать. И я понял тогда, отчего старики, дожившие до седых волос, не учась грамоте, читали наизусть выученные на слух целые главы старинных поэм, отчего на собраниях и вечерах люди непременно читают сочиненные ими стихи, пусть бесхитростные, но всякий раз как-то по особенному раскрывающие их характеры и отношение к жизни…
Я вспомнил почти сплошь состоящие из стихов стенные газеты, которые видел в шахтерском общежитии в Камфа и в правлении рыбацкого кооператива в Нгитане, в блиндаже пограничников на семнадцатой параллели и в дежурке военного аэродрома под Ханоем… Вспомнил бесчисленные конверты со стихами, которые мне показывали в редакции ханойского еженедельника «Ван нге» («Литература и искусство»), проводившей традиционный поэтический конкурс. Нет, это не графоманство, столь распространенное нынче, а проявление истинного влечения и любви к поэзии.
Мне представляется иногда, будто все здесь слилось воедино в стремлении к высокому поэтическому настрою: и природа, в своем особенном ритме чередующая времена года, отмечая их смену переменой ветров и цветением разных деревьев; и угловатые чаши полей, высокие межи которых – вспомним слова старого русского поэта – сами кажутся рифмами стихотворения; и реки, подобно цезурам рассекающие вытянутую с севера на юг землю; и полотнища горных лесов, похожие на парчовые футляры старинных рукописей; и вздымающиеся посреди пашен и прибрежных вод скалы, причудливые, как иероглифы древних стихов. Да и самый язык вьетнамцев, с шестью его музыкальными тонами, удивительно певучуй и гибкий, словно создан для стихосложения…
1973 г.
Поэзия Дай-вьета
Различны судьбы поэзии в разных землях, у разных народов. Но, пробудившись однажды к жизни, поэтическое слово не умирает. Меняются очертания морей и рек, пески затопляют долины, рушатся крепости, и застывают в безмолвном сне под землей некогда шумные города, истлевают в прах скипетры законных владык и завоевателей. Но строки стихов – доверены ли они хрупкой глине, непрочной бумаге или высечены в камне, сохранены ли для потомков тщанием переписчиков и покоем книгохранилищ или пробуждены от векового сна пытливостью и трудом потомков, – строки стихов неизбежно становятся достоянием людей, протягивая к их сердцам незримые нити из прошлого. Они словно эхо звучат в творениях поэтов других времен, в народных песнях, снова и снова пробуждая в людях тягу к добру, к созиданию и красоте.
Труден был путь поэзии на земле вьетов, он отмечен и взлетами творческого гения, и горестными утратами. Но на этой земле не могли не родиться стихи. Поэтические струны души пробуждались под обаянием природы, сплавленной из буйства красок и акварельной мягкости оттенков и полутонов. Здесь ярится раскаленное солнце, а там фиолетово-серый полог долгих дождей обволакивает весь зримый мир до самого окоема. Тишину вдруг разрывает в клочья рев тайфунов. Дурманящее ароматами пышноцветье сменяет усталое увядание осени. Отлоги, песчаные скосы у моря, круты одетые парчою лесов горные склоны и плодородные равнины то ширятся в речных устьях, то, стиснутые горами и морем, тянутся с севера на юг узкой извилистой лентой. Деревья в лесных чащах упираются кронами в синеву неба, опутанные переплетениями лиан. Стелются по опушкам неисчислимые цветы и травы. И бродят в жилах древес, в корневищах и стеблях былия незримые соки, способные в искусных руках стать смертельной отравой или целительным зельем. Реки, каскадами падающие с гор, вырываясь на равнины, смиреют и несут в океан свои воды, то окрашенные красноватым илом, то прозрачные – исхитившие у неба серебристую голубизну. А у берегов озер и тихих излучин колышутся тростники и цветут лотосы. И все это движение и противоборство стихий совершается в извечном ритме. Этому ритму подчинены повадки лесных чудищ, перелеты пернатых, таинственная жизнь водяных тварей и недолгий век радужнокрылых бабочек. Даже могучие драконы (а вьеты считали себя потомками Повелителя драконов) свои появления, знаменовавшие близость великих событий, увязывали с чередованием природных начал. Этому ритму подвластны труды земледельцев, дважды в год – если не возмущались стихии – снимавших с полей урожай риса.
Но не всегда рос на здешней земле рис, и не всегда тут были долины и пашни. Это человек своими руками оттеснил джунгли и замостил болота и прибрежные морские топи. Из века в век на равнинах и в предгорьях ширились рисовые поля, а вдоль накатывавшихся на них в паводок рек вырастали – стеною – плотины. Вьеты сами создали свою землю. Они не мыслили себя без этой земли, да и земля бы погибла без их забот и трудов: «Слышите, люди: не бросайте поля. Что ни щепотка земли – то щепотка злата…»
Так пели они и шагали по полю за плугом, оставляя борозды, похожие на строки; и, подобно рифмам, стягивали эти строки четкие грани межей. А прямо по строкам – нога в ногу – следом за пахарем брели белые аисты…
Песни вьеты слагали издревле. Испокон веку были свои особые песни у землепашцев и рыбарей, у ткачей и лодочников. Их пели во время работы и в часы вечернего досуга, когда над раскидистыми кронами баньянов у общинных домов повисали яркие звезды и высеченные из векового дерева люди, духи и звери, украшавшие эти дома, затаясь в полумраке, внимали напевам – то тягучим и плавным, то задорным и звонким. Песни звучали не только на деревенских или храмовых празднествах. Известно, к примеру, что так называемые «песни гребцов» исполнялись во время лодочных гонок на торжествах по случаю дня рождения вьетского государя Ле Дай Ханя (985 г.). Тот же Ле Дай Хань, принимая во дворце посла сунского императора, немало удивил чопорного китайского вельможу, когда, как докладывал посол, «самолично затянул песнь приглашения к винопитию; слова были непонятны…» (Стало быть, пел государь на языке вьетов.) В 1025 году основатель новой династии Ли (1009–1225 гг.) государь Ли Тхай То на дворцовом празднике раздавал награды певцам. Среди них была «лицедейка Дао», имя которой, как отмечал летописец, стало понятием нарицательным и означало впоследствии просто «певица». В 1060 году государь Ли Тхань Тонг перевел на язык вьетов тямские песни, сочинив к ним аккомпанемент для барабанов. Преемник его, Ли Нян Тонг, царствовавший с 1072 по 1128 год, построил в столице «дом для песнопений и плясок», а по словам безымянного автора первой из дошедших до нас вьетских летописей («Краткой истории земли Вьет»), «песни и мелодии для музыкантов все были сложены им (государем. – М.Т.) самолично». И при династии Чан (1225–1400 гг.) песни звучали в пиршественных залах дворцов, в домах вельмож и чиновников.
По преданию, именно в эту эпоху в войсках вьетов, которые за недолгих три десятилетия трижды отразили вторгавшиеся из Поднебесной полчища монгольской династии Юань, родились «песни военного барабана». Тогда их, став двумя рядами у барабанов, пели солдаты. Но до наших дней песни эти дошли уже в виде диалога между юношами и девушками, а ритм – в разных местах по-своему – отбивают где барабаны, а где – и туго натянутый певцами канат, иногда пропущенный для резонанса сквозь пустой бочонок.
И пусть где-то к концу XV века, с утверждением засушенного, регламентированного до мелочей конфуцианского церемониала, песни вытесняются из придворного обихода, – народ, само собою, пел свои старые песни и слагал новые. Если же говорить о влиянии на поэзию письменную, то в песенном наследии важнее всего были, пожалуй, «ка зао» – стихи, читаемые нараспев, на свой особенный музыкальный лад, отточенные и совершенные по форме. Применяясь к новым временам, ка зао менялись сами, и мало их дошло в первозданном виде из далекого Средневековья. Но уж если они касались деяний государей, державных и ратных дел, то пели о героях, сражавшихся за отчизну, о «справедливых» императорах, при которых даже куры не клевали отборных рисовых зерен, а быков было столько, что стали тесны пастбища. Хотя все чаще и чаще звучала в народных стихах горечь и боль обездоленных людей, а позднее, в XVIII веке, безвестные сочинители звали людей в повстанческое войско тэйшонов и оплакивали казненного властями «доброго разбойника» Лиу. Ему, кстати, в другом уже жанре, была посвящена народная баллада. Но в большей гораздо мере вместе с пословицами (они состояли зачастую из нескольких строк и тоже строились по законам поэтической метрики) уделяли внимание трудам земледельца и связанным с ним обычаям и природным приметам. Одни пословицы и ка зао складывались как бы в обширный календарный свод, где значились сроки пахоты, посева и жатвы, предвестия доброй и худой погоды… Другие – составляли свод этический и нравственный, полный не только вековечных житейских правил, но и вбиравший в себя иногда осуждения и неприятие этих правил, исподволь готовившие перемены в обычаях и в быту. Этот последний свод не во всем совпадал с уложениями конфуцианской морали. Но совсем уж расходился с этой моралью еще один, третий свод народной поэзии, самый, пожалуй, богатый и популярный, – любовная лирика. Ка зао воспевали любовь свободную, не знающую закостенелых и подчас смехотворных рамок, – любовь, дарящую людям счастье и красоту, и гневно обрушивались на все, что мешало соединению влюбленных.
Были у вьетов и другие стихи и песни – язвительные и насмешливые, бичевавшие пороки и кривду, жадность и жестокость богатеев и метившие нередко в самые, как говорится, «верхи». Не случайно уже в 80-е годы XVIII столетия чванливый временщик Хоанг Динь Бао приказал выставить на рыночной площади ножницы с крюками, чтобы тут же на месте отхватить язык всем, кто посмеет завести хулительные песни.
Этот пускай и неполный рассказ о народной поэзии поможет нам лучше представить себе, как складывался духовный мир стихотворцев Дай-вьета. Да, они были людьми книжными и с малых лет корпели над конфуцианским каноном, над историей древних и новых китайских династий; без этого невозможно было выдержать испытания ни в провинции, ни в столице, дававшие ученую степень и право на чиновничью должность. Но историю своей земли и законы, по которым испокон веку жили на этой земле их соотечественники, будущие стихотворцы, – росли ли они под изразцовыми кровлями палат или под тростниковыми крышами, – сызмальства узнавали еще и из сказок и песен. И неписаная «история», равно как и не освященные авторитетами древних мудрецов житейские правила, властно налагали свою печать на их характеры и судьбы. В одной из песен вьетов поется: «За сотни лет сотрутся письмена на камне, «Письмена» же изустные и тогда будут жить…». Не отсюда ль идут строки стихов великого поэта Нгуен Чая (1380–1442 гг.): «Рушатся каменные стелы, но истина нерушима…»
Здесь уместно вспомнить, что традиция почти всегда связывала сочинение песен со стихотворчеством. Великий поэт Нгуен Зу (1765–1820) писал в одном из своих стихов: «Деревенские песни нам помогают выучиться словам, чтоб описать, как растят тутовник и рами…» И сказано это было не для красного словца. Поэт всерьез старался постичь искусство народных певцов. Вместе с друзьями являлся он из своей деревни Тиен-диен в деревню Чыонг-лыу. Там по вечерам девушки, сидевшие за прялками, и приходившие в дом, где они пряли, юноши пели знаменитые «песни ткачей». Нгуен Зу пел вместе с ними и был всегда желанным партнером. Как-то раз девушки, боясь, что он не явится на следующий вечер, взяли у поэта в залог его платок. Говорят, он даже полюбил одну из прях. Потом, когда он уехал, девушка стала чахнуть от тоски, и он написал ей письмо в стихах…
Но вернемся к письменной поэзии Дай-вьета. Когда и как она начиналась? Древнейшие, дошедшие до нас стихи относятся к концу X века. В 987 году в Дай-вьет прибыл из Китая посол сунского императора, звали его Ли Цзюэ. До тогдашней столицы, города Хоалы (Цветочные врата), стоявшего в неприступных горах, надо было добираться на лодках. И государь Ле Дай Хань выслал навстречу посольству просвещенного и влиятельного при дворе буддийского наставника До Тхуэна (924–990 гг.), дабы тот, под видом кормчего, постарался выведать тайные мысли посла. Плывя по реке, Ли Цзюэ произнес две строки стиха. И вдруг лодочник подхватил рифму.
Посол был в изумлении. Он подружился с До Тхуэном и подарил ему стихи, таившие, как оказалось, в себе глубокий политический смысл. А потом на отъезд Ли Цзюэ другой буддийский наставник и советник государя, Нго Тян Лыу (959–1011 гг.), сочинил стихи «Провожая посла Ли Цзюэ». Оговоримся, что вьеты писали тогда стихи по-китайски, на ханване. Но неужели это были первые опыты стихосложения? Вряд ли возможно было без должного опыта и традиции состязаться с китайцем в сочинении стихов на его родном языке или написать ему в дар изысканные вирши. И такая поэтическая традиция у вьетов, конечно, была. Углубляясь в источники, так сказать, против течения времени, мы узнаем, что начиная со второй половины VII века китайские поэты, бывая в земле вьетов или встречаясь с приезжавшими оттуда в Китай буддийскими наставниками, дарили вьетам стихи. Литератор и ученый Ле Куи Дон (1726–1784 гг.) приводит четыре таких стихотворения, сохранившихся в китайских анналах. Но в этих случаях не принято, чтобы стихи дарила только одна сторона. Должно быть, вьеты тоже дарили поэтам из Поднебесной стихи; просто в китайские книги они не вошли, китайцы вообще редко сохраняли произведения чужой словесности. Однако по крайней мере одно исключение было сделано: в танских анналах сохранилась написанная ритмической прозой ода «Белые тучи озаряют весеннее море» – сочинение выходца из земли вьетов Кхыонг Конг Фу, который учился в танской столице Чанъани, сдал в 780 году экзамен, дослужился при китайском дворе до высоких чинов, но был уволен за «излишнее прямодушие». А еще раньше также учившийся в Чанъани выходец из земли вьетов – Фунг Дай Чи – удостоился за свои стихи похвалы танского императора Гаоцзу (правил с 618 по 626 гг.). И речь здесь может идти о серьезной поэзии, об этом говорит хотя бы тот факт, что двое буддийских наставников из земли вьетов состязались в стихосложении с великим поэтом Ван Вэем (699–759). Итак, вьеты сочиняли стихи за триста лет до приезда в их страну почтенного Ли Цзюэ. Но можно попытаться отодвинуть истоки поэтической традиции еще дальше. Обратимся снова к «Краткой истории земли Вьет». Там под 184 годом приведено сообщение о том, что ханьский император (вьетские земли были тогда захвачены Китаем) узнал о поднятом вьетами мятеже и послал к ним нового наместника – Цзя Мэнь-цзяня. Он утихомирил бунтовщиков. И дальше в летописи говорится, что после замирения (цитируем): «Сотни семейств (то есть множество людей. – М.Т.) распевали такую песню: „Отец Цзя прибыл с опозданием. Нас прежде довели до мятежа. Теперь вокруг покой и чистота. И снова бунтовать нам ни к чему“».
Начнем с того, что вряд ли в земле вьетов «сотни семейств» могли распевать стихи, написанные по-китайски. Язык этот и много позднее знали только люди образованные, большинство же его не знало. Здесь, видимо, летописец попытался с помощью стихотворения как-то обрисовать то, что мы теперь назвали бы «общественным мнением». Сами же стихи, несомненно, сочинил человек просвещенный. Заметьте, в них сказано «нас… довели до мятежа». «Нас»!.. Значит ли это, что автор был из тех, кто бунтовал? То есть не обязательно бунтовщик, а вообще тамошний уроженец?.. Через сто лет это четверостишие включил в свои «Полные исторические записи Дай-вьета» Нго Ши Лиен, для того времени довольно критически относившийся к источникам. Сложно сейчас настаивать на том, что стихи эти относятся именно ко II веку; однако для нас главное в том, что сама постановка вопроса позволяет по-новому взглянуть на истоки поэзии вьетов.
Трудности в изучении древнейшего периода в истории поэзии Дай-вьета во многом связаны с сохранностью памятников. Практически от той эпохи почти ничего не сохранилось. Да и произведения более позднего времени тоже дошли до нас далеко не полностью. Причин тому было немало. Здесь и влажный тропический климат, и частые пожары (в старину все почти постройки были деревянными), и случавшиеся беспорядки, во время которых документы и книги, выброшенные из хранилищ, по словам историка, «переполняли дороги». А ведь «тиражи» книг были тогда невелики. В Дай-вьете, правда, книгопечатание (с резных досок) существовало издавна. В буддийской житийной книге «Записи дивных речений в Саду созерцания» (XIV в.) есть жизнеописание преподобного Тин Хаука (умер в 1190 г.), где сказано, что предки его испокон веку резали доски для печатанья книг. С XV столетия дело это было поставлено на более широкую и современную ногу. В середине века ученый и поэт Лыонг Ньы Хок дважды ездил с посольством в Китай и, выведав там секреты печатного дела, обучил ему своих односельчан. В родной его деревне Хонг-лиеу (по-новому: Лиеу-чанг) доныне стоит ден (поминальный храм) Ньы Хока, где чтут его память. Оттуда ремесло разошлось по соседним деревням. Но все же книг было мало. Многие вещи оставались в рукописях, а они теряются и гибнут быстрее, чем книги.
В свое время ученый и поэт Хоанг Дык Лыонг (XV в., экзаменовался в 1478 г.), составляя «Собрание превосходных образцов поэзии», сетовал: «Ах, отчего в стране, где творения словесности и искусства создаются вот уж которое столетие, нет ни одного собрания лучших своих творений, и, обучаясь стихосложению, надо отыскивать образцы где-то вдали, среди сочинений эпохи Тан…» Хоанг Дык Лыонг утверждал, будто книги пропадают оттого, что люди их не так уж и ценят: всякий, мол, распознает вкус изысканных яств или красоту парчи; но не каждому дано почувствовать прелесть поэзии. К тому же, считал он, сочинения поэтов теряются, а собрания стихов не составляются, поскольку мужам просвещенным недосуг заниматься ими из-за служебных занятий; иные же и вовсе ленятся. Через триста лет примерно такие же точно резоны приводил составитель «Всеобъемлющего собранья стихов земли Вьет» Ле Куи Дон, сокрушавшийся, что даже со времен Хоанг Дык Лыонга многое утрачено.
Но среди «превосходных образцов», собранных учеными мужами, нам не найти, конечно, таких по-своему примечательных строк: «Каждый клочок бумаги – пусть даже с половиной иероглифа, каменные плиты с надписями, воздвигнутые в этой стране, – все, едва увидите, изничтожайте в прах». А они многое бы могли объяснить о гибели книг, потому что «эта страна» – Дай-вьет, сама же цитата взята из указа минского императора Чэнцзу, который в 1407 году двинул на Дай-вьет свои войска, заботясь якобы о восстановлении законности и порядка. Двенадцать лет спустя новым указом император повелел вывезти из Дай-вьета в Китай все ценные книги, хроники и документы. В перечне их рядом с летописями и трактатами по воинскому искусству – книги стихов и прозы… И это был отнюдь не случайный каприз! Без малого полтора столетия спустя китайский историк, вместе с войсками вошедший на территорию Дай-вьета, с похвальной откровенностью писал: «Когда пришли солдаты, они, за исключением буддийских и конфуцианских канонических сочинений, отнимали любую печатную книгу, даже разрозненные страницы, вплоть до книжек пословиц и побасенок, по которым дети учились грамоте, – все должно было быть сожжено…»
Однако литераторы и ученые Дай-вьета с огромным трудом, чуть ли не по строкам, собирали наследие своей поэзии. К началу XIX века существовало уже девять больших антологий. Примечательно, что пять из них составлены были в XV или в самом начале XVI века, а когда после долгой и тяжелой всенародной войны были изгнаны из страны полчища феодального Китая, Дайвьет переживал огромный духовный подъем. Возрос, естественно, интерес к литературе – выразительнице национального духа и традиций, к своей истории, к наследию предков. Государь Ле Тхань Тонг (1442–1497 гг.) особым указом велел награждать людей, сохранивших редкие книги…

