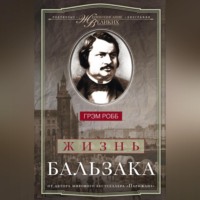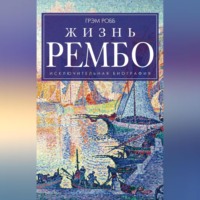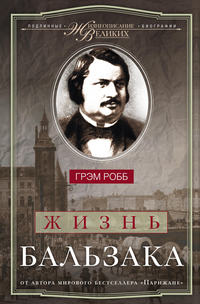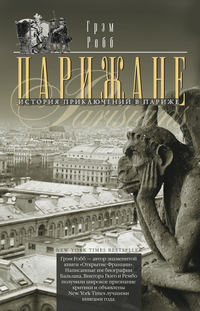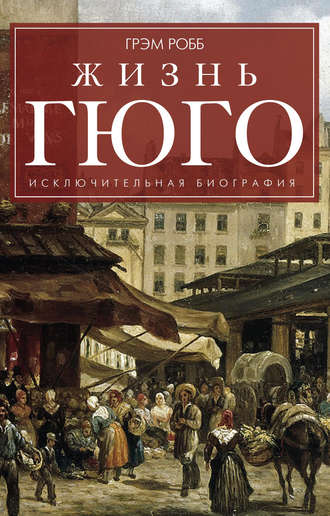
Полная версия
Жизнь Гюго
Во времена детства Гюго события недавнего прошлого упрощали; в соответствии с принятыми тогда взглядами население целых городов и провинций делилось на патриотов и коллаборационистов. Пробелы в семейной истории Гюго отчасти связаны с молчанием матери и любовью отца к приукрашиванию; рассказывая, отец всегда выставлял себя героем. Более того, после того, как семейная жизнь родителей Гюго разладилась, они воздвигли между собой границы. С самого начала Гюго вполне терпимо относился к тому, что его мать была роялисткой, а отец – республиканцем; подразумевалось, что в несовместимости родителей виноваты исторические процессы, а не сам Гюго.
На рубеже веков, во времена Директории, город, который Виктор Гюго назовет своей «духовной родиной»{19}, был полуразрушенным музеем недавней французской истории. Его дворцы кишели нищими и мусором. Он больше напоминал послереволюционный Занзибар, чем современный Париж. Сады Тюильри перекопали и посадили в них картошку; статуи повалили, изуродовали надписями. Служащие военного совета заняли ратушу Отель-де-Виль (переименовав ее в «Дом коммуны»), где нетронутыми оставили только бюсты вождей революции.
В пятой части «Отверженных» Гюго рисует наиболее запомнившуюся ему картину того времени. Что примечательно, он датирует ее годом своего рождения – 1802-м{20}. Именно тогда «совесть города», огромная клоака, затопила Париж. Типично гюгоистский взгляд на историю – соглашательский, непостижимый и страшный: «…во мраке, среди мерзких отбросов прежнего великолепия, бродит огромный слепой крот – прошедшее». Такое прошлое, как у Гюго, было необычайно трудно вмещать в себя и анализировать. Зато оно рождало сильное подозрение: те, кто вовлек его детство в важные исторические события, были ограничены еще более великими силами.
Популярным местом прогулок в Париже времен Директории был сад д’Идали возле Елисейских Полей. Незадолго до государственного переворота, совершенного Наполеоном Бонапартом, на развалинах прошлого расцвело свободное предпринимательство. В саду д’Идали устраивали порнографические представления на свежем воздухе: ставили «живые картины», над головами резвились одетые сильфидами девицы, привязанные к воздушным шарам. Майор Гюго водил туда жену и как-то раз случайно встретил старого знакомого, полковника Виктора де Лагори, начальника штаба генерала Моро, бывшего в то время главным соперником Наполеона.
О Лагори известно очень мало, если не считать того, что позже он принял участие в заговоре Моро против Бонапарта, а также роли, какую он сыграл в детстве Виктора Гюго. Даже его биографы путаются в том, как его звали{21}. Он был на шесть лет старше Софи и родом из тех же мест, что и она. Пылкий республиканец, но с манерами роялиста, он составлял приятный контраст Бруту Гюго: носил синий костюм и бриджи, белые перчатки и черную треуголку с крошечной кокардой – первый росток более изящного века. Согласно приметам, разосланным министром полиции в 1804 году, гражданам следовало сообщить властям о мужчине ростом 5 футов 2 дюйма, с черными волосами, карими, глубоко посаженными глазами, с изрытым оспой лицом и с язвительной улыбкой. Кроме того, говорили, что он слегка кривоног, как человек проведший много лет в седле{22}.
При поддержке Лагори Гюго вернулся в строй. В 1799 году они с женой переехали в почти сельский район к западу от Парижа – там располагалась военная школа. В комнате, выходящей на Марсово поле (теперь с другой стороны над ним возвышается Эйфелева башня), ровно год спустя после свадьбы родился их первенец Абель. Софи Гюго нянчила его под грохот барабанов и военные марши.
В июне они уехали на родину Гюго, в Нанси. Как пишет Стендаль в незаконченном романе «Люсьен Левен», Нанси превратили в казармы; по улицам города постоянно маршировали полки, отбывающие на Восточный фронт. Майора Гюго послали завоевывать Баварию. Во время той кампании, благодаря своим «храбрости, активности и уму»{23}, он заслужил покровительство Жозефа, старшего брата Наполеона Бонапарта, – вот первое проявление длинной цепочки совпадений, которая периодически сплетает историю семьи Гюго с историей семьи Бонапарт. Софи осталась в Нанси с жеманной свекровью и ревнивой золовкой. Единственной отрадой для нее стал хорошо воспитанный Лагори. Ходили слухи, что они стали любовниками, но то гда обстоятельства едва ли благоприятствовали им. В Нанси 16 сентября 1800 года у Софи родился второй сын, Эжен.
Почти сразу же Гюго назначили командиром близлежащего гарнизона в Люневиле, где в феврале 1801 года был подписан договор, объединивший бонапартистскую Францию. Начинались великие дни. По словам песни, которую майор Гюго часто мурлыкал дома – его сын точно вспомнил ее полвека спустя, – будущий император предъявил суровый ультиматум европейским правителям: «Поцелуйте меня в зад, и вы получите мир… И получился мир!»{24} Госпожа Гюго не считала, что общество мужа полезно для детей{25}.
На время пребывания в Люневиле выпало еще одно важное событие: поездка в Вогезы, во время которой майор Гюго предъявил свои супружеские права на вершине горы.
В августе 1801 года его во главе 20-й полубригады перевели в город Безансон. Семье Гюго отвели квартиру во втором этаже в старом доме на площади Сен-Квентин. Там, как-то вечером, ближе к концу зимы, родился их третий сын. На первый взгляд хуже времени не придумаешь. И вот на седьмой день декады (септиди) месяца вантоз десятого года Республики (по-старому, 26 февраля 1802 года) там произошло важное событие:
Исполнилось веку два года. Рим сменял Спарту;Наполеон высился над Бонапартом,И маску суровую первого консулаУже пробивал лоб Императора.Тогда в Безансоне, старом испанском городке,Порывом ветра бросило семечко,Родился ребенок смешанной крови – бретонской и лотарингской —Бледный, слепой и немой…Тот ребенок, которого Жизнь выцарапала из своей книгиИ которому не суждено было прожить и дня,Был я{26}.Майор Гюго ждал девочку. Он собирался назвать ее Викториной-Мари – Мари в честь подруги семьи, а Викториной в честь Виктора Лагори, который согласился стать крестным отцом. Поскольку Мари могло быть и мужским именем, ребенка назвали Виктор Мари Гюго. Обряда крещения не проводили{27} – еще один признак того, что мать Гюго вовсе не была такой ревностной католичкой, какой он ее считал.
Роды были трудными, и ребенок родился слабым. По словам матери, он был «не больше ножа»{28}. Возможно, он родился недоношенным. Акушерка предсказывала ему скорую смерть; прошла целая неделя, прежде чем майор сообщил о рождении мальчика Лагори.
Если верить первому стихотворению сборника «Осенние листья» (Les Feuilles d’Automne), одной из величайших автобиографий в стихах периода романтизма, плотнику сделали двойной заказ: на колыбель и на гроб. Крепкий полуторагодовалый брат Гюго Эжен, унаследовавший отцовское здоровье, увидел слабого малыша и высказал первое субъективное мнение о будущем поэте: «bêbête» («глупенький»){29}.
Через шесть недель семье предстояло распасться.
С романтической точки зрения происхождение Гюго выглядело неутешительным, нечистым. Еще при его жизни один критик пытался доказать, что Гюго с молоком матери всосал упрямый дух Франш-Конте и стал типичным представителем своего края, порождением востока Франции{30}. Однако место его рождения примечательно лишь почти полным отсутствием какого-либо значения. Гюго родился в семье военного, которую захватила рожденная Бонапартом буря{31}. В Безансоне он больше никогда не бывал. Следующий «сеанс связи» с родиной состоялся лишь в 1880 году, когда местный совет открывал памятную табличку, увековечившую его рождение. По такому случаю Гюго послал благодарственное письмо, в котором назвал себя «камешком на дороге, по которой человечество идет вперед»{32}. Хотя он всю жизнь тяготел к символическим совпадениям, в отличие от некоторых своих капризных биографов, Гюго смирился с необычными обстоятельствами своего рождения и видел причудливую личную географию признаком внут реннего интернационализма. Его мать была из Бретани, отец – из Лотарингии (попеременно переходившей то к Германии, то к Франции), а город, в котором он родился, когда-то принадлежал Испании. Таким образом, он по сути своей олицетворял тот союз, который он одним из первых назвал «Соединенными Штатами Европы»{33}.
Самые большие искажения Гюго приберег для своей семьи. Здесь погоня за автобиографической точностью отклоняется в чистую фантазию, постепенно, с годами, отвердевая и подтверждаясь слоями вымышленных воспоминаний. Но принять версию Гюго ради удобства рассказчика, а затем разоблачить ее как комическое преувеличение – значит игнорировать неприятную реальность, которую он почти всю жизнь старался осмыслить или изгнать.
Позже он считал, что его (символически) крестил Лагори, «который был свидетелем моего рождения». Возможно, Лагори в самом деле, как утверждает Гюго, предложил смягчить германское «Гюго» латинским «Виктор»{34}. Но, когда ребенок родился, Лагори был в Париже.
Слабость младенца Гюго также относится одновременно к области мифов и к реальности. В 1852 году, когда Гюго диктовал подробности первых лет своей жизни Александру Дюма, он признавался, что в полтора года еще не держал голову: она все время заваливалась на плечо{35}. Такая деталь выдает склонность к мифологизации. Возможно, он и был недоношенным, но голова у него была огромной – он больше всего гордился такой своей отличительной особенностью. Где-то рядом – гордость мощностью своих сексуальных желаний и свершений. Он даже уверял, будто один психиатр поставил ему диагноз излеченной гидроцефалии{36}. Неоднократное упоминание о своей слабости в текстах, которые во всех остальных отношениях нельзя назвать образцами скромности, бросает двусмысленный свет на его неполноценность по сравнению с двумя старшими братьями. В одном смысле он был практически Квазимодо. С другой стороны, слабое тело, которое с трудом поддерживало гениальную голову, означало, что Гюго родился с идеальным телосложением для романтика.
Если рассматривать его внешность в свете пылкого соперничества с братьями, слабость Гюго выливалась в еще одно неожиданное преимущество. В первом стихотворении сборника «Осенние листья» он дает довольно противоречивое объяснение, согласно которому материнское молоко, по божественной воле, делится между детьми поровну, но каждый сын получает все: идеальное, чудесное решение для братского соперничества. Больному и слабому ребенку уделяется больше забот, что «сделало меня дважды ребенком моей упрямой матери».
В автобиографических произведениях суровые обстоятельства первых дней Гюго несколько затушеваны: «Брошенный всеми, кроме матери», ребенок любовью возрождается к жизни. Затем вся семья уезжает на Корсику, где «младенец быстро достиг годовалого возраста»{37}.
Такое переосмысление своих истоков интересно своей полной неправдой. Несмотря на тревогу о слабом здоровье Виктора и боязнь, что он не выживет, семья отбыла в Марсель, когда ему было всего шесть недель от роду. У майора Гюго начались крупные неприятности: его оклеветали перед командованием, обвинив в растрате. Спасти его могло только одно: обращение к парижским покровителям, Лагори и Жозефу Бонапарту.
Итак, 28 ноября 1802 года Софи Гюго оставила младенца на некую Клодину, жену ординарца Гюго, а сама поехала в Париж. Майор Гюго положился на ее убедительность и продолжал служить. Софи Гюго поселилась на улице Нев-де-Пти-Шан, недалеко от Вандомской площади и совсем рядом с улицей Гайон, где жил недавно вышедший в отставку Лагори.
Пожалуй, самым важным событием раннего детства Виктора Гюго было то, что его рождение совпало с крахом семейной жизни родителей.
Из-за того, что сам Гюго упорно молчал о родительских неладах, все биографы делали упор на его последующем примирении с отцом, случившемся после смерти матери. Возможно, стремление видеть во всем хорошее как-то связано с личной жизнью его биографов, а может быть, стало следствием влияния традиционного жанра биографии, где вычеркиваются те или иные события по мере их наступления. С другой стороны, Гюго, обладавший поразительной способностью никогда не избавляться от горя, жил скорее не по прямой, а по спирали, по кругу, и катастрофы его жизни следует представлять как постоянно повторяющиеся события, которые отличаются лишь степенью силы.
Когда дремлющая душа снисходит в телоИ проживает в сердце, которого наконец коснулся холод,Словно считая трупы на поле битвы,Каждое отлетевшее горе и прерванную мечту…Там, в ночи, где нет никакого света,Душа в полном мраке, где будто наступает конец,Все же чувствует, как что-то трепещет под вуалью…Тебя, что спит в тени, – священное воспоминание!{38}Так как при виде постоянно ссорящейся супружеской пары посторонних так и тянет предложить свою помощь, Софи называли излишне сухой, холодной и даже упрямой, как ослица. Последнее качество ее муж приписывал ее бретонскому происхождению{39}. Не следует забывать, что ее холодность и очевидное отсутствие чувства юмора резко контрастировали с постоянно фонтанирующим майором. «Жаль, что я не могу разбить узы языка, – писал он в 1800 году, – и полнее описать свои чувства, обожествить женщину, которую я обожаю, держать ее в своих объятиях и прижимать к груди мать моих малышей»{40}.
Служит ли такой пылкий стиль доказательством искренности, как часто предполагают? Письма майора, помимо всего прочего, демонстрируют его знакомство с популярной литературой того времени, изобиловавшей преувеличениями и страстными изъявлениями чувств. Это ему пригодилось, когда он написал свой первый приключенческий роман.
Малышей, страдавших от того же «лишения», что и их отец, закармливали сладостями. Виктор постоянно просил «мамумаму»{41}, а ему приходилось довольствоваться миндальным печеньем.
В январе 1803 года майор снялся с лагеря и отплыл с тремя сыновьями на Корсику, где французская армия готовилась обороняться против чумы и англичан. Софи, похоже, не спешила ни просить за майора, ни даже отвечать на его письма. Впервые в жизни она была свободна и наслаждалась обществом Лагори.
Тем временем условия жизни остальных членов семьи стремительно ухудшались. С Корсики они в июне 1803 года отплыли в Портоферрайо, на крошечный островок Эльба, за одиннадцать лет до того, как свергнутый Наполеон пытался втащить остров в XIX век, построив там нормальные дороги. Их дом стоял на улице, которая теперь называется улицей Гверраци{42}. Няня водила мальчиков играть к морю. Зимой почта не приходила. Майор чувствовал себя брошенным. Он охотно признавался в том, что из него хорошей матери не вышло. У Виктора резались зубки, он страдал от жары; судя по всему, его изводили глисты. Он редко плакал, но озирался по сторонам с таким видом, как будто что-то потерял. На Корсике ему нашли няню – местную жительницу, которая возила его гулять в коляске, но ребенку было с ней неуютно, так как она не говорила по-французски. Позже Гюго утверждал, что одним из первых выучил итальянское слово cattiva{43}, то есть «злая». Возможно, правы те, кто позже уверял, будто в отцовском доме не все шло гладко.
Несмотря на все псевдорелигиозные излияния майора, в основе всех его писем – отчаянная жажда секса. Видимо, он считал, что честно предупредил обо всем Софи. Он намекал на то, что хранит ей верность из последних сил: «Думаешь, в моем возрасте и с моим характером хорошо бросать меня одного?» Для успокоения жены он писал, что местные женщины имеют обыкновение закалывать любовников кинжалами, не говоря уже о добавочной «гарантии» в виде возможных «болезней».
Было ясно, что их брак окончен. Напоминая об огромности своих аппетитов, майор, большой специалист по самооправданию, заранее выписывал себе индульгенцию. Впрочем, его заблуждения были искренними. Жена его обладала необычным даром: она не признавала его достоинств. «Благодаря своему характеру я не умею наживать врагов, зато у меня много друзей, – писал он на следующий год. – Я видел, как тебе все хуже рядом со мной; ты вынуждена жить раздельно по ряду причин, ты бросила меня, предоставив пылким страстям моего возраста»{44}.
Наконец, заручившись поддержкой в лице Лагори, Софи выехала из Парижа. После долгого путешествия она прибыла на Эльбу в июле 1803 года. Через четыре месяца, взяв детей, она вернулась в Париж.
Единственным окошком, в которое можно заглянуть, чтобы понять те катастрофические четыре месяца, служит прошение о разводе, написанное Софи в 1815 году{45}. По словам Софи Гюго, ее муж завел себе «наложницу» по имени Катрин Тома, дочь госпитального служащего из Портоферрайо. Эта женщина называла себя графиней де Салькано, будущей второй женой майора Гюго. Возможно, она послужила прототипом для образа солдата-трансвестита из «Тирольской авантюристки», мелодраматического романа, который Гюго-старший написал, выйдя в отставку. Невозмутимая, бездетная, Катрин Тома была к тому же на одиннадцать лет моложе Софи. Ничего не подозревающую Софи убедили уехать во Францию с тремя сыновьями до того, как явятся англичане и всех их возьмут в плен. Ее мужу после ее отъезда никто уже не мешал потакать тому, что Софи в прошении о разводе называет «его необузданными желаниями».
Судя по последующему письму майора, он пытался последний раз пробудить в жене хоть какую-то страсть. Он скучал по сыновьям и, возможно, соединился с Катрин Тома не сразу. Прошение Софи о разводе написано уже в то время, когда она сочинила легенду об амазонке-роялистке, скованной вандалом-республиканцем. Как и следовало ожидать, сыновья сочли легенду правдой.
Наверняка известно одно: когда Виктор Гюго приехал в Париж в возрасте года и девяти месяцев, его родители начали долгий и болезненный процесс развода. Распри продолжались на протяжении всего его детства; из-за них он долго путешествовал по наполеоновской империи.
Гюго никогда не притворялся, будто помнит что-нибудь из того периода. В чудесном видении, которое он приписывает матерям детей, рожденных на рубеже веков, и затем, гораздо позже, его второму «я», Мариусу из «Отверженных», республика была «гильотиной, встающей из полутьмы. Империя – саблей в ночи»{46}. Подобно многим писателям своего поколения, Гюго жил под впечатлением, что он вошел в мир в мифологическую эпоху – дитя гиганта, завернутое в знамя, уложенное на барабан и крещенное водой из шлема{47}.
Если, как он уверяет, его ранние годы прошли в тумане культурных предрассудков и двадцати лет политических и семейных распрей, из-за ошибки родителей туман получился необычайно густым и символичным. Постепенно поразительно сходное положение материализуется в будущем у самого Гюго, как будто взрослые, стоявшие вокруг его колыбели – или вокруг гроба, – написали роли, сыграть которые предстояло другим актерам.
«Священная память», которая переживает все остальное и предшествует другим воспоминаниям, – не что иное, как бессознательные детские размышления и постепенное осознание правды. Повторное обретение той правды составляет одну из основ жизни Гюго. История оказалась куда драматичнее, чем многословные рассуждения о том, что Виктор Гюго стал ведущей фигурой французского романтизма, так как страдал манией величия и свято верил в подлинность созданного им образа. Последнее было бы для него делом сравнительно простым. Зато поиск средств выражения для неприемлемых литературных истин, скованных условностями, стал поступком, на который не жаль было тратить время и силы. Поступком, достойным сына великана, зачатого на вершине горы.
Глава 2. Тайны (1804–1810)
Самые ранние воспоминания Гюго связаны с его первым парижским домом – домом номер 24 по улице Клиши, напротив парка Тиволи. При доме имелись двор с колодцем и ива, полоскавшая свои ветви в корыте. Пока Абель был в школе, Виктора и Эжена отправляли в детский сад на улице Монблан (теперь Шоссе-д’Антен).
Если верить «Рассказу о Викторе Гюго»[1], пребывание Гюго в его первом образовательном учреждении оказалось на удивление пророческим. Каждое утро горничная приводила Виктора в спальню дочери директора школы, мадемуазель Розы. Если бы Роза дожила до публикации книги, она бы узнала, что, пока она натягивала чулки, малыш Гюго любовался ее голыми ногами.
Дочь директора школы также стала жертвой еще одного, более яркого проявления детской сексуальности. Как и у рассказчика из прустовской эпопеи «В поисках утраченного времени», самый глубокий колодец памяти Гюго содержит легенду о Женевьеве Брабантской, графине, которую ложно обвинили в нарушении супружеской верности. Она нашла убежище в лесу с крошечным сыном… В старинной легенде Гюго видел трансформацию истории своей матери: беженка, мученица, брошенная жена, которая всю любовь перенесла на ребенка. Герой Пруста узнает о Женевьеве Брабантской из своего волшебного фонаря. Гюго, рожденный в век героев, предпочитал более тесный контакт. В школе ставили спектакль о Женевьеве Брабантской. Роль Женевьевы исполняла Роза. Виктор был ее сыном, одетым в овечью шкуру. Пока мадемуазель Роза произносила свои реплики, он царапал ей ноги железным когтем, который входил в его костюм.
Хотя такие воспоминания вполне правдоподобны, не по годам ранний интерес к женскому телу часто присутствует в романтической биографии{48}. Такие воспоминания сродни тому, что Виктор и Эжен во время поездки в Италию ели жареную ножку орла – им перской птицы{49}. Все это лишний раз свидетельствует о том, что даже воспоминания подвержены переменчивой моде. В защиту таких ранних впечатлений следует сказать, что Гюго обладал поразительной, почти фотографической памятью: однажды он правильно сосчитал в уме количество пуговиц на мундире отца{50}. Пожалуй, еще примечательнее то, что, дожив до старости, он ни разу дважды не рассказывал одной и той же истории одному и тому же человеку{51}. Но, даже если его воспоминания тщательно отобраны и приглажены, их не следует считать ложью и потому отбрасывать: возможно, вначале их выбрали бессознательно.
Мальчик в овечьей шкуре, который колет вымышленную соперницу матери символом члена, – необычно острое выражение подсознательного желания. Возможно, здесь прослеживается также бессознательная отсылка к выражению mouton à cinq pattes («овца с пятью ногами»), означающее некое явление или чудовище{52}. Мания величия, которая стала отличительной чертой воспоминаний Гюго о себе, конечно, прослеживается; однако его рассказы свидетельствуют и о том, что его стремление придать своей жизни свойства мифа влекут за собой и отрицание мифа (о невинности и чистоте ребенка).
Единственный объективный взгляд на Виктора Гюго на третьем году жизни являет собой удручающий контраст. Отзыв дан бывшим коллегой его отца по военному совету и земляком Софи Гюго по имени Пьер Фуше – будущим тестем Виктора Гюго. Приходя в дом на улице Клиши, Фуше всегда заставал младшего ребенка в углу; он хныкал и, пуская слюни, сосал соску{53}.
Еще одно место в детской, где любил сидеть маленький Виктор, – подоконник, откуда он наблюдал за сооружением особняка кардинала Феша{54}. Вот верный признак того, что экономика и церковь постепенно выздоравливали после революции. Однажды, глядя, как работают каменщики, он увидел, как огромная глыба камня рухнула на землю, придавив рабочего. Другой раз в грозу улицы вокруг дома превратились в реки, и два брата бродили по ним до девяти вечера.
Возможно, то, что кардинал Феш был дядей Наполеона и совершил церковное венчание своего племянника с Жозефиной в 1804 году, – тоже чистое совпадение, хотя соседство Феша и семьи Гюго – еще один отрезок лабиринта, который в Париже XIX века связывает любое явление с чем-то еще. Во всяком случае, оба рассказа образуют своего рода аллегорическую виньетку к детству Гюго – детству, загроможденному большим количеством трупов, чем воображение его современников-романтиков.
Насилие и опасность в ранних воспоминаниях Гюго служат также точным отражением мира взрослых. В доме и на улице рядом с домом часто появлялись незнакомцы. Раскрыли заговор, имевший целью убийство Наполеона (заговор Моро), и за Лагори, как за одним из главарей, охотилась полиция. Как-то на рассвете в месяц фрюктидор (в сентябре 1804 года) в дом номер 19 по улице Клиши, где жил близкий друг Лагори, нагрянула полиция. Лагори они не нашли, так как он прятался в доме через дорогу; четыре ночи он провел у своей приятельницы Софи Гюго под именем «господина де Курлянде», а затем вынужден был скрываться в провинции{55}.
Решение Гюго «создать себе веру»{56}, развить непогрешимый взгляд на зло и ступать по прочной породе идеологии – парадоксальный результат массового временного помешательства, царившего во времена роста и укрепления наполеоновской империи. Бюрократия превратила огромное число населения в шпионов. Отношения Софи с заговорщиками и их союзниками-роялистами ни для кого не были тайной. Лагори могли арестовать в любую минуту, но он, судя по всему, пользовался тайной поддержкой министра полиции Фуше, чья разветвленная сеть осведомителей была подземной империей внутри империи, пережившей ее роспуск в 1810 году и, кстати, падение самой империи.