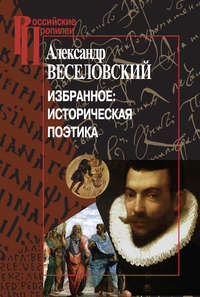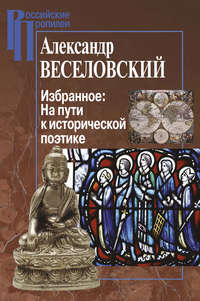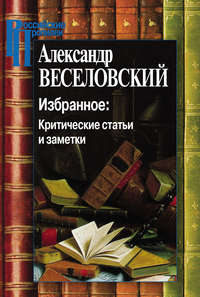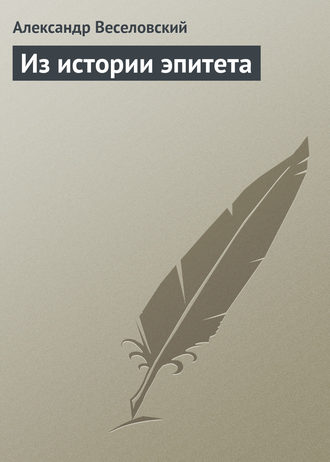 полная версия
полная версияИз истории эпитета
К числу распространенных принадлежит обобщение зеленого[4] цвета в смысле свежего, юного, сильного, ясного: viridis senectus ‹лат. – зеленая, свежая старость (Вергилий)›, sonus… viridior vegetiorque ‹лат. – звук более зеленый и крепкий (Геллий)›: ‹…› graenes Fleisch ‹нем. – зеленое мясо›, grtiene Fische ‹нем. – зеленые рыбы›: сырое мясо, непосоленные рыбы; Grun ist des Lebens goldener Baum ‹нем. – зелено золотое древо жизни (Гёте)›; у Пушкина наоборот: мертвая зелень. Если в сербской поэзии зеленый является эпитетом коня, сокола, меча, реки, озера, то, очевидно, не под влиянием этимологии (зелен и желт, золото), а по указанному обобщению понятия, что не исключает в иных случаях (конь зеленко серб., сив-зеленъ болг.) оттенок цветового порядка, как в отмеченном нами выше употреблении xvâveoè, blâr. Наоборот: Гёте говорит о серых слезах:
Vermagert bleich sind meine WangenUnd meine Herzenstränen grau(Divan, Nachklang)[5]Этих серых слез и золотых полян не изобразить в живописи: эпитеты суггестивны в смысле тона, яркости ощущения, нематериальной качественности предмета. Греческие боги не всегда так писались, как описывались; розоперстая Эос принадлежит поэзии, не живописи, как шекспировский образ занимающегося утра, шествующего в рыже-буром плаще по восточным покрытым росою холмам (‹«Гамлет»›, 1,1).
Внешнее развитие эпитета, например, в старофранцузском и греческом эпосе, очевидно, не принадлежит доисторической лирико-эпической череде, а стоит по сю сторону «постоянства»: постоянные эпитеты сгладились, не вызывают более образного впечатления и не удовлетворяют его требованиям; в их границах творятся новые, эпитеты накопляются, определения разнообразятся описаниями, заимствованными из материала саги или легенды. Говоря о накоплении эпитетов, я разумею не те случаи, когда при одном слове стоит несколько определений, дополняющих друг друга (cл. рус. удалый добрый молодец, перелетные серые малые уточки, болг. мила стара майка и т. д.), а накопление эпитетов однозначащих или близких по значению, когда, например, в греческом эпосе о муже говорится: ηύς τε μεγάς τε ‹доблестный и великий›; о Пенелопе: άσιτος, άπαστος εδητύος‹не поевшая, не отведавшая пищи› (‹«Одиссея»›, IV, 788), αιστος απυστος ‹невидимый, неведомый›; cл. рус: сыт – питанен (έν δια δυοτν). Сюда относятся парные эпитеты старофранцузского и немецкого эпосов: ‹бодрый и радостный, бурный и веселый, храбрый и смелый, печальный и унылый, истинный и верный, глупый и безумный; битва удивительная и тяжкая (или большая); хороший и дорогой, быстрый и легкий; тихо и мягко, стремительный и проворный (о коне); славный и могучий, смелый и сильный, темный и мрачный…›; малорус, чудный пречудный, болг. ситни дребни пилци, силенъ буенъ вѣтръ. Если я отнес эти эпитеты-дублеты к развитию и разложению постоянного эпитета, то потому лишь, что на почве писаного эпоса, немецкого и французского, они нередко являются в качестве cheville ‹фр. – лишнего слова, вставки›, вызванной требованием стиха. Но, быть может, подобные дублеты – древние, простейшее выражение плеоназма: накопление должно было поднять тон, подчеркнуть настроение; cл. гомеровское «хитроумный», «стародревний» наших причитаний; Ай-же ты ведь старый старик («Вольга и Микула»); черным черно (был.) то же, что bataille merveilleuse (см. merveilleusement) et pesant ‹фр. битва удивительная (вместо удивительно) и тяжкая›. Так многорукие истуканы индусов и многоочитый Аргус выражали понятие силы, могущества, бдительности[7].
Отметим, вне эпитета, подобные ли парные формулы эпоса: ψαμαθος τε κονις τε, ου δέμας ουδέ φοήν; έπος φάτο φώνησεν τε ‹…› ‹гр. – песок и пыль; ни фигурой, ни станом; слово сказал и молвил›, (причем могли еще ощущаться и оттенки значения);‹…› был. биться-ратиться, ст. – фр. ost ostesir ‹войско воевать›, ‹…› pâlir et taindre ‹бледнеть и гаснуть›, ‹…› провещиться-проязычиться; (о реке Смородине) Широким ты не широкая, Глубоким ты не глубокая; Широким широкая, А глубоким глубокая; пир-беседа; за беду стало, за великое горе показалося; ‹укр› думы: плаче-рыдае, грае-выгравае, тяжко-важко, ст. – сакс. hugi endi herta, egan endi erbi ‹мысли и сердце, владение и наследие› и др. Насколько это явление связано с явлением синтаксического параллелизма, отмеченного в изложении старогерманского, французского, славянского и финского эпосов – этого вопроса я здесь не коснусь.
Позднему времени отвечают сложные эпитеты, сокращенные из определений (болг. кравицы бѣлобозки, коньовци лѣвогривки и др.) и сравнений, как у Гомера (волоокая, розоперстая), в «Ригведе» («сильный – как – бык» и др.), нем. blitzschnell ‹…›, – и описательные определения французского эпоса, например для храброго витязя: en lui a chevalier molisme bon, vaillant chevalier, miudre de li fu adonc trovê ‹очень хороший рыцарь, доблестный рыцарь, лучшего, чем он, никогда не бывало› ‹…› и т. д. Бог вседержитель, господь всемогущий и т. д. – эти выражения развились в целую фразеологию: эпитет забыт за описанием, внушенным данными евангелия и церковными представлениями о божестве, но личный элемент сдерживается не ими одними, а и пределами древнего эпитета. Сл. следующие старо-французские определения при боге и Христе: Damnes Deus… le magne rei de Trinitat ‹…›; la grant vertu souvraine ‹…› ‹Господь Бог, великий царь Троицы; великая всемогущая добродетель›; ‹…› vrai père poesteis, ‹…› qui le mont doit sauver ‹…›‹истинный могучий отец; который должен спасти мир…› и т. д.
Так разнообразятся эпитеты и определения при Франции (douce France, le bon pais proisiê, la garnie, la loêe, la jollie, la bêle ‹фр. – милая Франция, добрая почитаемая страна, украшенная, достохвальная, веселая, прекрасная› и др.), императоре (frans, loieuz ‹благородный, верный›), Карле Великом: le fiz Pepin… nostre avoê… à l'adurê coraige, au cuer franc… ‹сын Пепина… наш защитник… со стойким духом, благородным сердцем…›; le guerrier, qui tant fait a proisier… ‹воин, который столь заслужил похвалу…› à la barbe canue… и т. д.
Накопление эпитетов и их развитие определениями я объясняю себе наступлением личной череды эпического творчества. Иные из эпитетов Карла принадлежат к древним и постоянным при витязе, герое il ber, il frans ‹могучий, благородный› и др.); emperère, le viel, à la barbe canue ‹император, старец, с седой бородой› характеризуют точнее; описания развивают это впечатление, обращаясь нередко в общие места, дополняющие недочеты стиха. В середине развития, между постоянным, так сказать, видовым эпитетом и наплывом описаний стоит выделение личного, характеризующего историческую особь, вошедшую в оборот народнопоэтической памяти: Карл à la barbe fleurie ‹седобородый› не совсем то, что «ласковый» Владимир князь, в последнем есть элемент желаемости, идеальных требований от царя, как в сербском – честитый; в первом – остаток портрета. Таким же образом отлагались в предании, при разнообразных условиях подбора, образы гомеровских героев, Илья оказался навсегда старым, как и Вейнемейнен, Ильмаринен молодым, как наш Добрыня, и т. п.
Представим себе, что одна из описательных формул, на которые разложился эпитет, показалась характерной, приглянулась и, вошла в частое употребление – и мы объясним себе некоторые явления гомерической речи и северного поэтического языка. У Гомера корабли сравниваются с морскими конями (‹«Илиада»›, IV, 708 след.), веялка или лопата для веяния хлеба зовется истребительницей ости ‹…› (‹«Одиссея»›, XI, 128 = XXIII, 275); греческие определения для царя: пастырь народов, богорожденный, кормчий и т. д.; у Эсхила корабли: колесницы мореходов, плавающие по морю с полотняными крыльями; улитка – носительница дома; полип – бескостный (Гесиод); плащ: защита – от холодного ветра (Пиндар). Сюда относится простейшая группа так называемых северных kenningar; разница та, что северная поэзия последовательно разработала то, что в греческой осталось частным явлением и разработала как средство риторики: определение или аппозиция выделена как самостоятельный показатель лица или предмета, к которому она относилась, а лицо и предмет умалчиваются. О буре, например, говорили как о «ломающей ветви»; это определение («ветви ломающая» ‹…›) и становится вместо «бури»; или король, конунг щедр, щедрость выражалась тем, что он раздавал, ломая их, запястья, служившие на севере выражением денежной ценности; коли он того не делал, он оказывался не щедрым, не ломающим запястья. Так явился ряд выражений – эпитетов, возведенных к значению нарицательных: baugabroti – ломающий запястья (cл. Англосакс. beaggiefa – раздающий их), baugskyndir, baugskati – и baughati: ненавидящий запястья, то есть золото; во всех случаях в значении короля. Таким же образом создались эпитеты-образы: кубок ветров = небо, путь чаек = море, путь ланей = горы и т. д. ‹…›. Их обилие и чрезмерное сочетание затрудняет чтение скальдов, это сторона искусственности; в основе эпитет = образ принадлежит естественному развитию народноэпического стиля; сравнение с параллелями греческими и описательным приемом французского эпоса подтверждает общие отношения народнопоэтической эволюции к инициативе личного поэта или поэтической школы.
Одностороннее определение эпитета не всегда выражалось в форме прилагательного или соответствующего существительного; вместо того чтобы сказать: это совершил такой-то сильный воитель, можно было выразиться: сила, мощь воителя; мощь = мышцы, тело; то и другое обобщалось в определении самого героя. Сл. употребление греческ‹ого› эпоса: ‹…› βΐη Ήρακληος или Ήρακληείν ‹…› (‹«Илиада»›, V, 638; Гесиод, «Теогония», 333): сила Геракла или Гераклова = сильный Геракл; ‹…› le cors Rollant ‹ст. – фр. – тело Роланда = Роланд› (‹«Песнь о Роланде»›, 613); ‹…› Сл. ‹верх. – нем› sîn lîp (Зигфрида) der ist so ktiene (‹«Шеснь о Нибелунгах»›) и в том же значении малорусские: «Головонька же моя бвдная», «голова моя казацькая! Бувала ты у землях у турецких, у вiрах бусурманьских», и т. д. (Иларион, «Слово о ветхом и новом завете»: въстани, о честьная главо) ‹…› Это не отвлечение, a pars pro toto ‹лат. – часть вместо целого›; эпитет, заступивший место нарицательного, как в старосеверном кеннинге: разделитель запястий. Серб, выражения: сила и сватови, кита и сватови вместо сильни, ки?ени сватове, чуда и jунаке вместо чудни jунаке свидетельствуют уже о другом психическом акте; сила, чудо указывают на обобщение и на другую череду развития.
Перенесите этот прием на другую почву, и вы придете к римским отвлечениям: Virtus, Victoria ‹лат. – добродетель, победа›, и целой веренице иносказательных образов, унаследованных средневековым и более поздним европейским аллегоризмом. Еще несколько шагов далее, и мы еще в XVII веке, но уже на стезях новой поэтики, которая подскажет нам нечто подобное гомеровскому βίν ‹гр. – сила›, но с другим личным оттенком и другим пониманием. «Сила Геркулеса» – это просто мышцы, крепость мышц; Менар во 2-й оде к Ришелье говорит не о beautê des jaunes moissons ‹фр. – красота желтых жатв›, а о la jaune beautê des moissons ‹фр. – желтая красота жатв›. Что его поразило прежде всего, это не реальный вид золотой жатвы, а именно красота, она все застилает, на нее-то и перенесен реальный эпитет: желтый, золотой. Это как бы переживание древнего поэтического или риторического приема на почве личного аффекта. ‹…›
Сила Геркулеса – это пластический эпитет в форме существительного; Virtus – рассудочное отвлечение, одетое в образ; красота и веселье и вечность – обобщения основного впечатления объекта; как бы устраняющие его формы, чтобы подчеркнуть общий тон ощущения.
Синкретические и метафорические эпитеты новейшей поэзии дают повод говорить о таком же переживании, которым можно измерить историческое развитие мысли в сходных формах словесного творчества. Когда в былое время создавались эпитеты: ясен сокол и ясен месяц, – их тождество исходило не из сознательного поэтического искания соответствия между чувственными впечатлениями, между человеком и природой, а из физиологической неразборчивости нашей, тем более первобытной психики. С тех пор мы научились наслаждаться раздельно и раздельно понимать окружающие нас явления, не смешиваем, так нам кажется, явления звука и света, но идея целого, цепь таинственных соответствий, окружающих и определяющих наше «я», полонит и опутывает нас более прежнего, и мы вторим за Бодлером: «Les parfums, les couleurs et les sons se rêpondent». Язык поэзии и наша групповая впечатлительность оправдывают в известной мере это положение. Гюго видится la dentelle du son que le fifre dêcoupe ‹ кружево звука, вырезываемого флейтой›, у Золя читаем о musique bondissante de cristal ‹…› ‹музыке, хрустально рассыпающейся…› (Le Rêve), у Эйхендорфа – о пурпурной влаге вечера (rote Ktihle). Сл. Бальмонт, «Мертвые корабли»:… хлопья снега падают беззвучно, «любимцы немой тишины»; оттуда представление сна, но ведь хлопья пушисты, и этот эпитет переносится на понятие сна: «Мы пушистые, чистые сны». Гейне говорит в «Флорентийских ночах» о способности воспринимать музыкальные впечатления образно, так сказать глазом: играет Паганини, и каждый удар его смычка вызывает в воображении ряд осязательных, фантастических картин и положений, музыка рассказывает и изображает в звучащих иероглифах, in tönender Bilderschrift: «то были звуки, которые то сливались в поцелуе, то, капризно повздорив, разбегались, то снова обнимались, смеясь, и, опять слившись, умирали в опьянении союза». Нечто подобное испытал Гёте, когда молодой Мендельсон сыграл ему увертюру Баха: ему казалось, он видит торжественную процессию сановников, в парадных одеждах, спускающуюся по гигантской лестнице. Той же способностью к смежным, бессознательно переплетающимся впечатлениям объясняются иные эпитеты у гр. А. Толстого: «Звуки скрипки так дивно звучали, // Разливаясь в безмолвии ночи. // В них рассказ убедительно-лживый // Развивал невозможную повесть, // И змеиного цвета отливы // Соблазняли и мучили совесть». «Если я перенесусь в настроение, какое дают стихотворения Гёте, я точно воспринимаю впечатление золотисто-желтого цвета, отливающего в червонный», – говорит Отто Людвиг, и ‹Арре› подтверждает подобную же слитность впечатления у живописцев, музыкантов в душе, для которых Моцарт – синий, Бетховен – красный; ‹Нурри› выразился об одном итальянском певце, что у него в распоряжении всего два цвета: белый и черный и т. п.
На почве такого рода психологических скрещиваний выросли синкретические эпитеты новейшей поэзии: ее необычные эпитеты-метафоры предполагают такую же бессознательную игру логики, как знакомые нам обиходные формулы: черная тоска, мертвая тишина, только более сложную, потому что усложнились и исторический опыт, и спрос анализа. Голубая даль переносится от понятия пространства во времени и получается «сон о жизни, в голубой дали», vom ferneblauen Leben у Готфрида Келлера; так явились у Гейне цветы, шепчущие друг другу душистые сказки: в основе простейший параллелизм (цветок-человек) и анимизм – цветок живет как человек; у цветов своя речь – аромат; когда они стоят, склонив друг к другу головки, они точно нашептывают друг другу сказки, и эти сказки – душистые. У Фофанова звезды нашептывают цветам «сказки чудные», которые рассказывают их ветрам; те распели их над землей, над волной, над утесами. «И земля под весенними ласками, наряжался тканью зеленою», переполнила «звездными сказками» безумно влюбленную душу поэта, который в дни многотрудные, в темные ночи ненастные, отдает звездам (в ненастные ночи!?) их задумчиво прекрасные сказки. Образ тот же, но доразвитый до потери реализма.
Вернемся еще раз к синкретическим эпитетам. Выделить среди них те, которые восходят к физиологическому синкретизму чувственных впечатлений, от других, которые говорят скорее за сознательное смешение красок, дело нелегкое: надо иметь в своем распоряжении массу самых разнообразных и разновременных примеров, чтобы разобраться в их хронологии. К какой из двух категорий отнести, например – «обширную тишину», vastum silentium Тацита (с иным оттенком в ‹«Анналах»›, 3, 4: dies per silentium vastus ‹лат. – день, проведенный в глубоком молчании›), темный (тенистый) холод, frigus opacum Вергилия (cл. фр. froid noir ‹черный холод› и серб, дебел хлад ‹темный холод›? Верно одно, что чем подробнее и раздельнее становится наше знание природы и жизни, тем шире игра психологических соответствий и разнообразная суггестивность эпитета; что если в творчестве мифа человек спроецировал себя на природу›, оживляя ее собою, то с нарастающим обособлением личности она стала искать элементов самоанализа в природе, очищенной от антропоморфизма, перенося ее внутрь себя, и это искание отразилось в новой веренице эпитетов. В том и другом отношении поэты-символисты идут в колее, давно проторенной поэзией; все дело в мере и признании; если порой символистов не понять, в этом отчасти их вина. «Мысли пурпурные, мысли лазурные» одного из современных русских представителей символизма поражают нас, хотя в основе лежит тот же психический акт, который позволяет нам говорить о ясных мыслях, düstere Gedanken Гейне, хотя нас не смущают и его blaue Gedanken ‹нем. – голубые мысли› ‹…›. Разница в специальном характере перенесения впечатлений пурпура и лазури, ярких и горячих либо мягких и спокойных, на настроения мысли. Такого рода личные настроения могут выразиться в эпитете, выводе из целого ряда уравнений, взаимная зависимость которых не всегда ясна, а ощущается как нечто искомое, неуловимое, настраивающее на известный лад: la chanson grise ‹фр. – серая песня› символистов, où l'Indêcis au Prêcis se joint ‹фр. – где неопределенное и определенное сливаются›. Сделать такого рода личные эпитеты общеупотребительными может энергия сильного таланта (личная школа) и такт художника. Примером может послужить характеристика Бориса и Пьера в «Войне и мире»; разговаривает Наташа с матерью: «И очень мил, очень, очень мил! – говорит Наташа о Борисе, – только не совсем в моем вкусе, – он узкий такой, как часы столовые… Вы не понимаете?.. – узкий, знаете серый, светлый… – Что ты врешь? – сказала графиня. – Наташа продолжала: Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял… ‹Безухов› – тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный» (т. II, ч. 3, гл. 13). Голубые мысли, мечты Гейне не поражают, а нравятся потому, что обставлены целым рядом образов, наводящих на них соответствующую окраску: blaue Augen, ein Meer von blauen Gedanken ‹нем. – голубые глаза, море голубых мыслей› ‹…›. Вырванные из голубой атмосферы эти эпитеты режут ухо.
Но, помимо личной школы, есть еще школа истории: она отбирает для нас материалы нашего поэтического языка, запас формул и красок; она наложила свою печать на эпитеты романтической поэзии, с ее предилекцией к «голубому», как заставила нас верить в «contes bleus» ‹фр. – голубые сказки› и «blaues Wunder», blaue Rätsel ‹нем. – голубое чудо, голубые загадки› ‹…›. А какое богатство новых представлений и соответствующих им образов принесло нам христианское миросозерцание, этого вопроса касались с разных точек зрения, но со стороны стиля он остается открытым.
В нашем культурно-историческом и этнографическом языке пошло в ход слово переживание (survivals) и даже «пережиток»; в сущности переживания нет, потому что все отвечает какой-нибудь потребности жизни, какому-нибудь переходному оттенку мысли, ничто не живет насильно. Современное суеверие относится к языческому мифу или обряду как поэтические формулы прошлого и настоящего: это кадры, в которых привыкла работать мысль и без которых она обойтись не может.
Эти кадры ветшают; их живучесть зависит от нашей способности подсказать им новое содержание и от их – вместимости. Когда-то греческие храмы и средневековые соборы блестели яркими красками, и цветовой эффект входил в состав впечатления, которое они производили; для нас они полиняли, зато мы вжились в красоту их линий, они стали для нас суггестивны иной стороною, и нам приходится насильно вживаться в впечатление расписной греческой статуи. Удается ли такое вживание – вот вопрос, над которым стоит задуматься не одним лишь историкам литературы. Мы твердим о банальности, о формализме средневековой поэзии любви, но это наша оценка: что до нас дошло формулой, ничего не говорящей воображению, было когда-то свежо и вызывало ряды страстных ассоциаций.
Эпитеты холодеют, как давно похолодели гиперболы. Есть поэты целомудренной формы и пластической фантазии, которые и не ищут обновления в этой области; другие находят новые краски и – тоны. Здесь предел возможного указан историей: искать обновления впечатлительности в эмоциональной части человеческого слова, выделившегося в особую область музыки, не значит ли идти против течения?
Сноски
1
Указаниями на эпитеты литовской и латышской народной поэзии я обязан любезности Э.А. Вольтера. Другие сообщения из области эпитета сделаны были мне Л.Н. Майковым, В.Е, Ернштедтом и Ф. де ла Бартом.
2
ст. – фр. – яблоневая палка
3
Сл. в серб‹ских› песн‹ях›: да погуби мила сына свога (‹Халанский М.Г. Южнославянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. Варшава. 1893. Т. 1. С. 143. 152›).
4
Сл. такое же обобщение у латинских поэтов времен упадка: roseus ‹розовый› в значении brillant, dorê, beau ‹блестящий, золотой, красивый›; напр., у Валерия Флакка ‹«Аргонавтика», V, 366› ‹…›
5
Изможденно бледны мои щеки // И серы слезы моего сердцах
Сл. у него же – das graue Weib (= die Sorge) ‹серая женщина (= забота)›.
7
(плеоназм) В серб‹ских› песн‹ях› (Халанский ‹М.Г. Южнославянские сказания о Кралевиче Марке. Варшава, 1893–1896› Т.1. С. 90–91): у Мусы три сердца, у Чины – десять (‹Т. 2. С. 231, 242; С. 248, 258, 260›); Гераклу Вергилий дает три души, ‹«Энеида»›, VIII, 563; – Трехглазый арап в сербск‹их› песн‹ях› у ‹М.Г.› Халанского ‹Т. 1. С. 266, 269›.