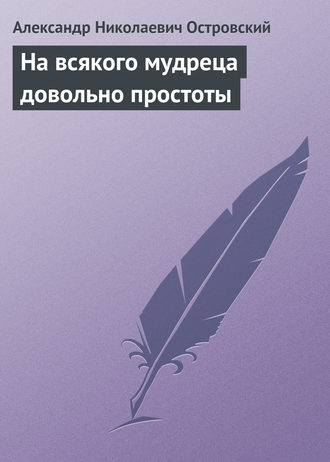 полная версия
полная версияНа всякого мудреца довольно простоты

Александр Николаевич Островский
На всякого мудреца довольно простоты
(Комедия в пяти действиях)
Действие первое
Егор Дмитрич Глумов, молодой человек.
Глафира Климовна Глумова, его мать.
Нил Федосеич Мамаев, богатый барин, дальний родственник Глумова.
Егор Васильич Курчаев, гусар.
Голутвин, человек, не имеющий занятий.
Манефа, женщина, занимающаяся гаданьем и предсказываньем.
Человек Мамаева.
Чистая, хорошо меблированная комната, письменный стол, зеркало; одна дверь во внутренние комнаты, на правой стороне другая, входная.
Явление первое
Глумов и Глафира Климовна за сценой.
Глумов (за сценой). Вот еще! Очень нужно! Идти напролом, да и кончено дело. (Выходя из боковой двери.) Делайте, что вам говорят, и не рассуждайте!
Глумова (выходя из боковой двери.) Зачем ты заставляешь меня писать эти письма! Право, мне тяжело.
Глумов. Пишите, пишите!
Глумова. Да что толку? Ведь за тебя не отдадут. У Турусиной тысяч двести приданого, родство, знакомство, она княжеская невеста или генеральская. И за Курчаева не отдадут; за что я взвожу на него, на бедного, разные клеветы и небывальщины!
Глумов. Кого вам больше жаль, меня или гусара Курчаева? На что ему деньги? Он все равно их в карты проиграет. А еще хнычете: я тебя носила под сердцем.
Глумова. Да если бы польза была!
Глумов. Уж это мое дело.
Глумова. Имеешь ли ты хоть какую-нибудь надежду?
Глумов. Имею. Маменька, вы знаете меня: я умен, зол и завистлив; весь в вас. Что я делал до сих пор? Я только злился и писал эпиграммы на всю Москву, а сам баклуши бил. Нет, довольно. Над глупыми людьми не надо смеяться, надо уметь пользоваться их слабостями. Конечно, здесь карьеры не составишь – карьеру составляют и дело делают в Петербурге, а здесь только говорят. Но и здесь можно добиться теплого места и богатой невесты – с меня и довольно. Чем в люди выходят? Не всё делами, чаще разговором. Мы в Москве любим поговорить. И чтоб в этой обширной говорильне я не имел успеха! Не может быть! Я сумею подделаться и к тузам и найду себе покровительство, вот вы увидите. Глупо их раздражать, им надо льстить грубо, беспардонно. Вот и весь секрет успеха. Я начну с неважных лиц, с кружка Турусиной, выжму из него все, что нужно, а потом заберусь и повыше. Подите, пишите! Мы еще с вами потолкуем.
Глумова. Помоги тебе Бог! (Уходит.)
Глумов (садится к столу). Эпиграммы в сторону! Этот род поэзии, кроме вреда, ничего не приносит автору. Примемся за панегирики. (Вынимает из кармана тетрадь.) Всю желчь, которая будет накипать в душе, я буду сбывать в этот дневник, а на устах останется только мед. Один, в ночной тиши, я буду вести летопись людской пошлости. Эта рукопись не предназначается для публики, я один буду и автором, и читателем. Разве со временем, когда укреплюсь на прочном фундаменте, сделаю из нее извлечение.
Входят Курчаев и Голутвин; Глумов встает и прячет тетрадь в карман.
Явление второе
Глумов, Курчаев и Голутвин.
Курчаев. Bonjour![1]
Глумов. Очень рад; чему обязан?
Курчаев (садясь к столу на место Глумова). Мы за делом. (Указывая на Голутвина.) Вот, рекомендую.
Глумов. Да я его знаю давно. Что вы его рекомендуете?
Голутвин. Тон мне ваш что-то не нравится. Да-с.
Глумов. Это как вам угодно. Вы, верно, господа, порядочно позавтракали?
Курчаев. Малым делом. (Берет карандаш и бумагу и чертит что-то.)
Глумов. То-то, оно и видно. У меня, господа, времени свободного немного. В чем дело? (Садится, Голутвин тоже.)
Курчаев. Нет ли у вас стихов?
Глумов. Каких стихов? Вы, верно, не туда зашли.
Голутвин. Нет, туда.
Глумов (Курчаеву). Не марайте, пожалуйста, бумагу!
Курчаев. Нам эпиграмм нужно. Я знаю, что у вас есть.
Глумов. Никаких нет.
Курчаев. Ну, полно вам! Все знают. У вас на весь город написаны. Вон он хочет сотрудником быть в юмористических газетах.
Глумов (Голутвину). Вот как! Вы писали прежде?
Голутвин. Писал.
Глумов. Что?
Голутвин. Все: романы, повести, драмы, комедии…
Глумов. Ну, и что же?
Голутвин. Ну, и не печатают нигде, ни за что; сколько ни просил, и даром не хотят. Хочу за скандальчики приняться.
Глумов. Опять не напечатают.
Голутвин. Попытаюсь.
Глумов. Да ведь опасно.
Голутвин. Опасно? А что, прибьют?
Глумов. Пожалуй.
Голутвин. Да говорят, что в других местах бьют; а у нас что-то не слыхать.
Глумов. Так пишите!
Голутвин. С кого мне писать-то, я никого не знаю.
Курчаев. У вас, говорят, дневник какой-то есть, где вы всех по косточке разобрали.
Голутвин. Ну, вот и давайте, давайте его сюда!
Глумов. Ну да, как же не дать.
Голутвин. А уж мы бы их распечатали.
Глумов. И дневника никакого у меня нет.
Курчаев. Разговаривайте! Видели его у вас.
Голутвин. Ишь, как прикидывается; а тоже ведь наш брат, Исакий.
Глумов. Не брат я вам, и не Исакий.
Голутвин. А какие бы мы деньги за него взяли…
Курчаев. Да, в самом деле, ему деньги нужны. «Будет, говорит, на чужой счет пить, трудиться хочу». Это он называет: трудиться. Скажите пожалуйста!
Глумов. Слышу, слышу.
Голутвин. Материалов нет.
Курчаев. Вон, видите, у него материалов нет. Дайте ему материал, пусть его трудится.
Глумов (вставая). Да не марайте же бумагу!
Курчаев. Ну, вот еще, что за важность!
Глумов. Каких-то петухов тут рисуете.
Курчаев. Ошибаетесь. Это не петух, а мой уважаемый дядюшка, Нил Федосеич Мамаев. Вот (дорисовывает), и похоже, и хохол похож.
Голутвин. А интересная он личность? Для меня, например?
Курчаев. Очень интересная. Во-первых, он считает себя всех умнее и всех учит. Его хлебом не корми, только приди совета попроси.
Голутвин. Ну вот, подпишите под петухом-то: новейший самоучитель!
Курчаев подписывает.
Да и пошлем напечатать.
Курчаев. Нет, не надо, все-таки дядя. (Отталкивает бумагу, Глумов берет и прячет в карман.)
Голутвин. А еще какие художества за ним водятся?
Курчаев. Много. Третий год квартиру ищет. Ему и не нужна квартира, он просто ездит разговаривать, все как будто дело делает. Выедет с утра, квартир десять осмотрит, поговорит с хозяевами, с дворниками; потом поедет по лавкам пробовать икру, балык; там рассядется, в рассуждения пустится. Купцы не знают, как выжить его из лавки, а он доволен, все-таки утро у него не пропало даром. (Глумову.) Да, вот еще, я и забыл сказать. Тетка в вас влюблена, как кошка.
Глумов. Каким же это образом?
Курчаев. В театре видела, все глаза проглядела, шею было свернула. Все у меня спрашивала: кто такой? Вы этим не шутите!
Глумов. Я не шучу, вы всем шутите.
Курчаев. Ну, как хотите. Я бы на вашем месте… Так вы стихов дадите?
Глумов. Нет.
Голутвин. Что с ним разговаривать! Поедем обедать!
Курчаев. Поедем! Прощайте! (Кланяются и уходят.)
Глумов (останавливая Курчаева). Зачем вы с собой его возите?
Курчаев. Умных людей люблю.
Глумов. Нашли умного человека.
Курчаев. По нас и эти хороши. Настоящие-то умные люди с какой стати станут знакомиться с нами? (Уходит.)
Глумов (вслед ему). Ну, смотрите! Маменька!
Входит Глумова.
Явление третье
Глумов и Глумова.
Глумов (показывая портрет Мамаева). Поглядите! Вот с кем нужно мне сойтись прежде всего.
Глумова. Кто это?
Глумов. Наш дальний родственник, мой дядюшка, Нил Федосеич Мамаев.
Глумова. А кто рисовал?
Глумов. Все тот же гусар, племянничек его, Курчаев. Эту картинку надо убрать на всякий случай. (Прячет ее.) Вся беда в том, что Мамаев не любит родственников. У него человек тридцать племянников, из них он выбирает одного и в пользу его завещание пишет, а другие уж и не показывайся. Надоест любимец, он его прогонит и возьмет другого, и сейчас же завещание перепишет. Вот теперь у него в милости этот Курчаев.
Глумова. Вот кабы тебе…
Глумов. Трудно, но попробую. Он даже не подозревает о моем существовании.
Глумова. А хорошо бы сойтись. Во-первых, наследство, потом отличный дом, большое знакомство, связи.
Глумов. Да! Вот еще обстоятельство: я понравился тетке, Клеопатре Львовне, она меня где-то видела. Вы это на всякий случай запомните! Сблизиться с Мамаевым для меня первое дело – это первый шаг на моем поприще. Дядя познакомит меня с Крутицким, с Городулиным; во-первых, это люди с влиянием, во-вторых, близкие знакомые Турусиной. Мне бы только войти к ней в дом, а уж я женюсь непременно.
Глумова. Так, сынок, но первый-то шаг самый трудный.
Глумов. Успокойтесь, он сделан. Мамаев будет здесь.
Глумова. Как же это случилось?
Глумов. Тут ничего не случилось, все это было рассчитано вперед. Мамаев любит смотреть квартиры, вот на эту удочку мы его и поймали.
Входит человек Мамаева.
Человек. Я привез Нила Федосеича.
Глумов. И прекрасно. Получай. (Дает ему ассигнацию.) Веди его сюда.
Человек. Да, пожалуй, они рассердятся: я сказал, что квартира хорошая.
Глумов. Я беру ответственность на себя. Ступайте, маменька, к себе; когда нужно будет, я вас кликну.
Человек Мамаева уходит. Глумов садится к столу и делает вид, что занимается работой. Входит Мамаев, за ним человек его.
Явление четвертое
Глумов, Мамаев и человек Мамаева.
Мамаев (не снимая шляпы, оглядывает комнату). Это квартира холостая.
Глумов (кланяется и продолжает работать). Холостая.
Мамаев (не слушая). Она недурна, но холостая. (Че– ловеку.) Куда ты, братец, меня завел?
Глумов (подвигает стул и опять принимается писать). Не угодно ли присесть?
Мамаев (садится). Благодарю. Куда ты меня завел? я тебя спрашиваю!
Человек. Виноват-с.
Мамаев. Разве ты, братец, не знаешь, какая нужна мне квартира? Ты должен сообразить, что я статский советник, что жена моя, а твоя барыня, любит жить открыто. Нужна гостиная, да не одна. Где гостиная, я тебя спрашиваю?
Человек. Виноват-с.
Мамаев. Где гостиная? (Глумову.) Вы меня извините!
Глумов. Ничего-с, вы мне не мешаете.
Мамаев (человеку). Ты видишь, вон сидит человек, пишет! Может быть, мы ему мешаем; он, конечно, не скажет по деликатности; а все ты, дурак, виноват.
Глумов. Не браните его, не он виноват, а я. Когда он тут на лестнице спрашивал квартиру, я ему указал на эту и сказал, что очень хороша, я не знал, что вы семейный человек.
Мамаев. Вы хозяин этой квартиры?
Глумов. Я.
Мамаев. Зачем же вы ее сдаете?
Глумов. Не по средствам.
Мамаев. А зачем же нанимали, коли не по средствам? Кто вас неволил? Что вас, за ворот, что ли, тянули, в шею толкали? Нанимай, нанимай! А вот теперь, чай, в должишках запутались? На цугундер тянут? Да уж конечно, конечно. Из большой-то квартиры да придется в одной комнатке жить; приятно это будет?
Глумов. Нет, я хочу еще больше нанять.
Мамаев. Как так больше? На этой жить средств нет, а нанимаете больше! Какой же у вас резон?
Глумов. Никакого резона. По глупости.
Мамаев. По глупости? Что за вздор!
Глумов. Какой же вздор! Я глуп.
Мамаев. Глуп! это странно. Как же так, глуп?
Глумов. Очень просто, ума недостаточно. Что ж тут удивительного! Разве этого не бывает? Очень часто.
Мамаев. Нет, однако это интересно! Сам про себя человек говорит, что глуп.
Глумов. Что ж мне, дожидаться, когда другие скажут? Разве это не все равно? Ведь уж не скроешь.
Мамаев. Да, конечно, этот недостаток скрыть довольно трудно.
Глумов. Я и не скрываю.
Мамаев. Жалею.
Глумов. Покорно благодарю.
Мамаев. Учить вас, должно быть, некому?
Глумов. Да, некому.
Мамаев. А ведь есть учителя, умные есть учителя, да плохо их слушают – нынче время такое. Ну, уж от старых и требовать нечего: всякий думает, что коли стар, так и умен. А если мальчишки не слушаются, так чего от них ждать потом? Вот я вам расскажу случай. Гимназист недавно бежит чуть не бегом из гимназии; я его, понятное дело, остановил и хотел ему, знаете, в шутку поучение прочесть: в гимназию-то, мол, тихо идешь, а из гимназии домой бегом, а надо, милый, наоборот. Другой бы еще благодарил, что для него, щенка, солидная особа среди улицы останавливается, да еще ручку бы поцеловал; а он что ж?
Глумов. Преподавание нынче, знаете…
Мамаев. «Нам, говорит, в гимназии наставления-то надоели. Коли вы, говорит, любите учить, так наймитесь к нам в надзиратели. А теперь, говорит, я есть хочу, пустите!» Это мальчишка-то, мне-то!
Глумов. На опасной дороге мальчик. Жаль!
Мамаев. А куда ведут опасные-то дороги, знаете?
Глумов. Знаю.
Мамаев. Отчего нынче прислуга нехорошая? Оттого, что свободна от обязанности выслушивать поучения. Прежде, бывало, я у своих подданных во всякую малость входил. Всех поучал, от мала до велика. Часа по два каждому наставления читал; бывало, в самые высшие сферы мышления заберешься, а он стоит перед тобой, постепенно до чувства доходит, одними вздохами, бывало, он у меня истомится. И ему на пользу, и мне благородное занятие. А нынче, после всего этого… Вы понимаете, после чего?
Глумов. Понимаю.
Мамаев. Нынче поди-ка с прислугой, попробуй! Раза два ему метафизику-то прочтешь, он и идет за расчетом. Что, говорит, за наказание! Да, что, говорит, за наказание!
Глумов. Безнравственность!
Мамаев. Я ведь не строгий человек, я все больше словами. У купцов вот обыкновение глупое: как наставление, сейчас за волосы, и при всяком слове и качает, и качает. Этак, говорит, крепче, понятнее. Ну, что хорошего! А я все словами, и то нынче не нравится.
Глумов. Да-с, после всего этого, я думаю, вам неприятно.
Мамаев (строго). Не говорите, пожалуйста, об этом, я вас прошу. Как меня тогда кольнуло насквозь вот в это место (показывает на грудь), так до сих пор, словно кол какой-то…
Глумов. В это место?
Мамаев. Повыше.
Глумов. Вот здесь-с?
Мамаев (с сердцем). Повыше, я вам говорю.
Глумов. Извините, пожалуйста! Вы не сердитесь! Уж я вам сказал, что я глуп.
Мамаев. Да-с, так вы глупы… Это нехорошо. То есть тут ничего нет дурного, если у вас есть пожилые, опытные родственники или знакомые.
Глумов. То-то и беда, что никого нет. Есть мать, да она еще глупее меня.
Мамаев. Ваше положение действительно дурно. Мне вас жаль, молодой человек.
Глумов. Есть, говорят, еще дядя, да все равно что его нет.
Мамаев. Отчего же?
Глумов. Он меня не знает, а я с ним и видеться не желаю.
Мамаев. Вот уж я за это и не похвалю, молодой человек, и не похвалю.
Глумов. Да помилуйте! Будь он бедный человек, я бы ему, кажется, руки целовал, а он человек богатый; придешь к нему за советом, а он подумает, что за деньгами. Ведь как ему растолкуешь, что мне от него ни гроша не надобно, что я только совета жажду, жажду – алчу наставления, как манны небесной. Он, говорят, человек замечательного ума, я готов бы целые дни и ночи его слушать.
Мамаев. Вы совсем не так глупы, как говорите.
Глумов. Временем это на меня просветление находит, вдруг как будто прояснится, а потом и опять. Большею частию я совсем не понимаю, что делаю. Вот тут-то мне совет и нужен.
Мамаев. А кто ваш дядя?
Глумов. Чуть ли я и фамилию-то не забыл. Мамаев, кажется, Нил Федосеич.
Мамаев. А вы-то кто?
Глумов. Глумов.
Мамаев. Дмитрия Глумова сын?
Глумов. Так точно-с.
Мамаев. Ну, так этот Мамаев-то, это я.
Глумов. Ах, Боже мой! Как же это! Нет, да как же! Позвольте вашу руку! (Почти со слезами.) Впрочем, дядюшка, я слышал, вы не любите родственников; вы не беспокойтесь, мы можем быть так же далеки, как и прежде. Я не посмею явиться к вам без вашего приказания; с меня довольно и того, что я вас видел и насладился беседой умного человека.
Мамаев. Нет, ты заходи, когда тебе нужно о чем-нибудь посоветоваться.
Глумов. Когда нужно! Мне постоянно нужно, каждую минуту. Я чувствую, что погибну без руководителя.
Мамаев. Вот заходи сегодня вечером!
Глумов. Покорно вас благодарю. Позвольте уж мне представить вам мою старуху, она недальняя, но добрая, очень добрая женщина.
Мамаев. Что ж, пожалуй.
Глумов (громко). Маменька!
Выходит Глумова.
Явление пятое
Те же и Глумова.
Глумов. Маменька! Вот! (Указывая на Мамаева.) Только не плакать! Счастливый случай привел к нам дядюшку, Нила Федосеича, которого вы так порывались видеть.
Глумова. Да, батюшка братец, давно желала. А вы вот родных и знать-то не хотите.
Глумов. Довольно, маменька, довольно! Дядюшка имеет на то свои причины.
Мамаев. Родня родне рознь.
Глумова. Позвольте, батюшка братец, поглядеть на вас! Жорж! а ведь не похож?
Глумов (дергает ее за платье). Полноте, маменька, перестаньте!
Глумова. Да что перестаньте! Не похож, совсем не похож.
Мамаев (строго). Что вы шепчете? На кого я там не похож? Я сам на себя похож.
Глумов (матери). Очень нужно толковать пустяки.
Мамаев. Уж коли начали, так говорите.
Глумова. Я говорю, что портрет на вас не похож.
Мамаев. Какой портрет? Откуда у вас портрет?
Глумова. Вот видите, у нас бывает иногда Егор Васильич Курчаев. Он, кажется, вам родственник тоже доводится?
Глумов. Такой отличный, веселый малый.
Мамаев. Да; ну, так что ж?
Глумова. Он все вас рисует. Покажи, Жорж!
Глумов. Да я, право, не знаю, куда я его дел.
Глумова. Поищи хорошенько! Еще он давеча рисовал, ну, помнишь. С ним был, как их называют? Вот что критики стихами пишут. Курчаев говорит: я тебе дядю буду рисовать, а ты подписи подписывай! Я ведь слышала, что они говорили.
Мамаев. Покажи мне портрет! Покажи сейчас!
Глумов (подавая портрет). Никогда, маменька, не нужно говорить таких вещей, которые другому могут вред сделать.
Мамаев. Да вот, учи мать-то лицемерию. Не слушай, сестра, живи по простоте! По простоте лучше. (Рассматривает портрет.) Ай да молодец племянничек!
Глумов. Бросьте, дядюшка! И непохоже совсем, и подпись к вам не подходит: «Новейший самоучитель».
Мамаев. Похоже-то оно похоже, и подпись подходит; ну, да это уж до тебя не касается, это мое дело. (Отдает портрет и встает.) Ты на меня карикатур рисовать не будешь?
Глумов. Помилуйте, за кого вы меня принимаете! Что за занятие!
Мамаев. Так ты вот что, ты непременно приходи ужо вечером. И вы пожалуйте!
Глумова. Ну, я-то уж… я ведь, пожалуй, надоем своими глупостями.
Мамаев уходит, Глумов его провожает.
Кажется, дело-то улаживается. А много еще труда Жоржу будет. Ах, как это трудно и хлопотно в люди выходить!
Глумов возвращается.
Явление шестое
Глумова, Глумов и потом Манефа.
Глумов. Маменька, Манефа идет. Будьте к ней внимательнее, слышите! Да не только внимательнее – подобострастнее, как только можете.
Глумова. Ну, уж унижаться-то перед бабой.
Глумов. Вы барствовать-то любите; а где средства! Кабы не моя оборотливость, так вы бы чуть не по миру ходили. Так помогайте же мне, помогайте же мне, я вам говорю. (Заслышав шаги, бежит в переднюю и возвращается вместе с Манефой.)
Манефа (Глумову). Убегай от суеты, убегай!
Глумов (с постным видом и со вздохами). Убегаю, убегаю.
Манефа. Не будь корыстолюбив!
Глумов. Не знаю греха сего.
Манефа (садясь и не обращая внимания на Глумову, которая ей часто кланяется). Летала, летала, да к вам попала.
Глумов. Ох, чувствуем, чувствуем.
Манефа. Была в некоем благочестивом доме, дали десять рублей на милостыню. Моими руками творят милостыню. Святыми-то руками доходчивее, нечйм грешными.
Глумов (вынимая деньги). Примите пятнадцать рублей от раба Егорья.
Манефа. Благо дающим!
Глумов. Не забывайте в молитвах!
Манефа. В оноем благочестивом доме пила чай и кофей.
Глумова. Пожалуйте, матушка, у меня сейчас готово.
Манефа встает, они ее провожают под руки до двери.
Глумов (возвращается и садится к столу). Записать! (Вынимает дневник.) Человеку Мамаева три рубля, Манефе пятнадцать рублей. Да уж кстати весь разговор с дядей. (Пишет.)
Входит Курчаев.
Явление седьмое
Глумов и Курчаев.









