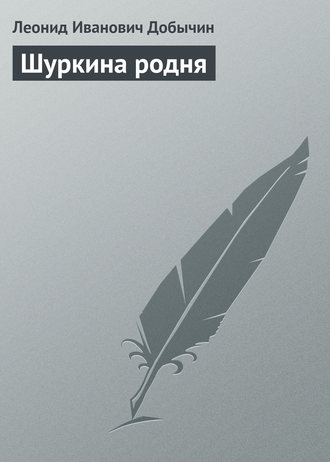 полная версия
полная версияШуркина родня
Процессия составилась порядочная. Встречные переходили на средину улицы и присоединялись. Некоторые же останавливали выступавших перед дрогами отца Михайлу и дьячка, сговаривались с ними и платили им, чтобы они попели.
Толстая Диеспериха, важно семенившая сейчас же вслед за родственниками, три раза выходила из толпы, брала свой подол в руки, обгоняла дроги и заказывала пение.
В числе других за гробом несколько кварталов прошла Ольга, дочь купца Суконкина.
Авдотья все еще лежала. Поминать поэтому позвали к Ваньке. К Ваньке же в сарай отправили и дроги вместе с мерином.
– Потом сочтемся, – сказал Ванька.
Как и следовало, на поминках подавали девять блюд. Четыре из них были изготовлены из мяса той свиньи, которую присутствующие уже однажды пробовали, когда праздновали именины Ванькиной жены.
Детей Авдотьи накормили в кухне вместе с Ванькиными. Шурка подтолкнул Егорку и напомнил ему случай со старухой, а Егорка подмигнул и снисходительно ответил, что бывало и не этакое.
В доме, когда дети вечером вернулись туда, теща главного и с ней еще одна старуха мыли пол. Когда они ушли, Маришка затопила печь, мальчишки вытащили из-под дедовой кровати сундучок, взломали его, взяли из него «рожки» и съели.
Плохо стало жить. Авдотья все лежала. – «Дорогой супруг мой», – вырвав из Маришкиной тетради лист, писала она и не знала, куда слать письмо.
Она гадала, капая со свечки в воду воск. Из капли должен был бы получиться гроб, если бы муж ее был мертв. Но ни гроба, ни другого чего-либо у нее не получалось.
В доме было пусто. Налить лампу было нечем. Хлеба тоже не было. За лошадь Ванька прислал с Нюркой четверть керосина и двух коз. Муки, чтобы подбалтывать им в пойло, было негде взять.
– Хоть в воду, – сказал Шурка, рассказав Егорке все это, и стукнул от досады кулаком одной руки по кулаку другой.
Егорка поджал губы, поморгал, задрав вверх голову, и предложил ему работать.
Молча и посвистывая, он повел его, как и всегда по вечерам, на станцию. Снег падал, от невидимой за тучами луны светло было, шаги поскрипывали, и дышать приятно было.
В «третьем классе», еле освещенном тусклой лампочкой и мутном от махорочного дыма, они сели. Они высмотрели женщину, которая, оставив на скамье корзину, отошла.
Егорка велел Шурке идти следом за ней и покараулить ее, а потом бежать к задворкам дома Марьина.
Когда он прибежал туда, Егорка уже ждал его. Взломав корзину, они вытащили вещи, запихали их под шубы и, снеся к Егорке, закопали в сено.
Утром они взяли все, что было белое, и вышли на базар. Цветному они дали полежать пока. Из выручки Егорка выдал Шурке треть.
13
Каждый вечер они стали проводить на станции. Они сидели в «третьем классе» и высматривали, что можно украсть. У спящих они шарили в карманах. К поездам они выскакивали и шныряли по вагонам.
Если ничего не попадалось, что бы можно было им стащить, они протягивали руку и просили милостыню.
Гордый, Шурка возвращался около полуночи и, разбудив Маришку, выдавал ей деньги на еду. Авдотье он сказал, что попрошайничает. Она всхлипнула и вытерла глаза.
Маришка и Алешка, младший, тоже захотели зарабатывать и стали выходить на станцию, стоять с протянутой рукой перед проезжими и ныть.
Всё чаще пассажиры стали умирать в пути, и люди в белых фартуках, неся вдвоем носилки, уже каждый раз, когда на станции был поезд, приходили на перрон.
Все расступались перед ними, и они, взяв из вагонов трупы и накрыв брезентом, уносили их в мертвецкую.
Когда они накапливались там, их вывозили в ямы, выкопанные за кладбищем, глубокие и длинные, как рвы, и присыпали снегом, а землей забрасывали лишь тогда, когда вся яма набивалась ими.
Около мертвецкой с раннего утра похаживали жулики. Одни были небритые, в замызганных шинелях, подпоясанных веревками, сутулые и сонные, другие же – нарядные, сейчас из парикмахерской, в штанах колоколами, в толстых пестрых шарфах и в цветистых кепках, сделанных из одеял.
За трупами, подскакивая на булыжниках, торчащих из укатанной дороги, с грохотом являлась наконец телега, и тогда гуляющие около мертвецкой устремлялись к ямам на песках за кладбищем.
Они присутствовали при разгрузке дрог и, дав им удалиться, обдирали мертвых.
Шурка и Егорка тоже бегали туда и, прячась за сосновыми кустами, издали подсматривали, пока все не расходились и собаки, отступившие немного, когда собрался народ, не возвращались к ямам.
– Черт возьми, – завидовали Шурка и Егорка, выбираясь по снегу из-за своих кустов и глядя вслед ворам, маршировавшим впереди с добычей.
– Чем мы виноваты, что еще так молоды? – роптали они и, чтобы отвлечь себя от этих горьких мыслей, совещались, как убить кого-нибудь. Тогда бы они сняли с него всё.
Однажды они были в клубе и смотрели представление «Для нас весна прошла». Оно растрогало их, и не раз они украдкой отворачивались друг от друга и снимали пальцем набегавшие им на глаза слезинки.
А когда мужчина в черной бороде и в красном вязаном платке на шее объявил, что будет гастролировать сегодня без суфлера, наклонился, чиркнул спичкой, с двух сторон поджег костер, разложенный на жестяном листе, и, уклоняясь от поднявшегося дыма, стал произносить стихотворение «Разбойники», они взглянули друг на друга и пожали друг другу руки.
Наконец, сатирики Дум-Дум и Эва-Эва страшно насмешили их, и они долго хлопали, встав с места, и кричали «бис».
Хваля программу и жалея, что уже все кончено, они пошли к дверям.
– Эх, здорово участвовали, курицыны дети, – восхищался Шурка, оборачивался и, подняв лицо, заглядывал в глаза толкавшимся вокруг него красноармейцам, железнодорожникам и девкам.
Вдруг Егорка тронул его за руку и подмигнул ему на пьяного, который был один.
Они пошли за ним в какой-то переулок между огородами. Снег под ногами взвизгивал. Луна светила. Тени от плетней и от торчавшей кое-где ботвы лежали на снегу.
Пройдя немного, пьяный вдруг остановился, растопырил руки, рухнул и остался лежать молча и не двигаясь.
Тогда они приблизились к нему, послушали и, оглянувшись, встали на колени и разули его.
Они сняли с него башмаки и новенькие серые обмотки. Шапка у него была дрянная, а шинель была надета в рукава и подпоясана.
В карманах ее ничего не оказалось, и Егорка напихал в них снегу. Шурка посмеялся.
– Убивать не будем? – глядя на Егорку снизу вверх, спросил он.
– Нет, – сказал Егорка, – не из-за чего, – и Шурка согласился с ним.
У дома они прежде, чем припрятать башмаки в сарае, подошли к окошку и при свете принялись рассматривать их. К ним подкрался Ванька, страшно наорал на них и дал им по пощечине, а башмаки забрал себе.
К Авдотье один раз зашел дед Мандриков. Она еще лежала. Он присел возле нее.
– Вот видите, в каком я состоянии, – сказала она и поплакала немного.
Дед уже в утешение напомнил ей, что кого бог полюбит, того он, обыкновенно, принимается испытывать.
Тогда она ответила ему, что мало удовольствия от этакой любви, и он тихонько посмеялся в бороду.
– А данную Диеспериху, – понегодовал он, – за ее халатность следовало бы поставить к стенке.
– Ах, – сказала ему тут и с благодарностью взглянула на него Авдотья, – поднести вам нечего, – а он приятно улыбнулся и ответил, что и так доволен.
После этого он рассказал ей новости. Он рассказал ей, что разграблена канатчиковская усадьба, где она жила когда-то, когда муж ее служил там писарем.
– Неужели? – оживилась она и приподнялась. Она расспрашивала обо всех подробностях.
– Что я себе взяла бы там, – сказала она, – это шкаф с зеркальными дверями и рояль.
Пока они беседовали, Шурка соображал, что можно было бы снять с Мандрикова, если бы его убить.
Он делал это теперь с каждым, кто ему встречался. Иногда он шел за кем-нибудь, одетым в новенькую кожаную куртку или в неизношенные сапоги, пока тот не входил в какую-нибудь дверь и окончательно за ней не оставался.
– Не судьба, должно быть, – думал он тогда.
Однажды, когда он стоял у поезда и клянчил милостыньку, человек в ушастой шапке с сереньким барашком и в шинели подошел к нему, дал колчаковскую десятку и спросил его, не знает ли он места, где бы можно было временно пристроить заболевшую в дороге женщину с вещами.
– Да, – ответил Шурка, просияв. – Я знаю. Есть такое дело. Много ли вещичек? – и не стал отказываться от негодных денег.
Мило разговаривая, он повел солдата.
– Вот сюда, – сказал он, заходя в свой двор, и в кухне, засветив лучину, показал солдату стены и кровать с двумя кувшинами и львом, изображенными на спинке.
Он уговорил Авдотью впустить эту женщину, и к вечеру она была водворена.
Вещичек с нею оказалось две: большой сундук и ящичек. Почти всё время у нее был жар, она лежала тихо, и больших хлопот с ней не было.
Солдат являлся иногда, смотрел, жива ли она, отпирал сундук и, сунув что-нибудь себе за пазуху, скрывался.
Про него рассказывали, что он шляется по деревням и кутит там с бабенками. Он мог так растащить всё дочиста, и чтобы вещи были целы, нужно было поскорей убить его. Все дни и ночи Шурка думал, каким образом устроить это, и не мог придумать.
Топкой печек, пока мать болела, ведала Маришка. Это дело очень увлекало ее, и она без устали подкладывала и нажаривала ее, точно в бане. К тому времени, когда Авдотья наконец поправилась и встала, дров в сарае уже не было.
Литовка, завернувшая взглянуть, что делается в доме, покачала головой, подумала и обещала как-нибудь уладить это. Ее муж от времени до времени, когда он должен был отправиться на паровозе ночью, стал предупреждать, что между третьей и четвертой вёрстами он сбросит пять-шесть плах.
Взяв санки и Алешку, Шурка до рассвета выходил туда. Пустые санки грохотали в тишине, и приходилось взваливать их на спину или нести вдвоем в руках.
Однажды, подобрав три плахи, Шурка приказал Алешке караулить их, а сам пошел по шпалам посмотреть, не сбросил ли литовкин муж еще чего-нибудь.
Луна, которая светила до сих пор сквозь тучу, выплыла из-за нее, и сразу сделалось виднее. Прутья кустиков по сторонам дорожки, которая пересекала рельсы, стали красными.
За ними на снегу лежало что-то серое, похожее на человека, и, оставив санки, Шурка побежал туда.
Приблизясь, он стал красться, пригибаться и идти не поднимая ног, чтобы под ними как-нибудь не скрипнуло. С тропинки, чтобы быть еще бесшумней, он сошел, и в валенки его набился снег.
Лежавший человек не двигался. Он был одет в шинель, и ноги у него были подкорчены, точно он спал в вагоне на короткой лавке. Шапки на нем не было. Она валялась на дороге. Голову он прикрывал руками.
Это был солдат, который поместил больную у них в доме и проматывал ее пожитки.
– Дяденька, – ударил его Шурка носком валенка по каблуку с подковой, вскрикнул и помчался прочь, схватившись за голову, как Маришка, когда дед, которого она хотела разбудить, вдруг оказался мертвым.
Снова очутясь на рельсах, он остановился, чтобы его сердце стало биться медленней.
– Вещички, – просияв, сказал он, – теперь наши.
Вечером солдата привезли во двор к ним, и Авдотья вышла на крыльцо.
– Вот, можете похоронить, – сказал ей возчик. – Протокол уже составлен. Ваш жилец замерз. Был малость выпивши.
– Он здесь не проживал, – ответила Авдотья и не приняла его.
14
Умерла больная незаметно, ночью, так что беспокойства никакого не было. Авдотья, чтобы отвезти ее на кладбище, хотела попросить у Ваньки мерина и сани. Шурка же сказал ей, что не стоит связываться с Ванькой: сунет нос в вещички, и тогда с ним будет не разделаться.
– И правда, – согласилась мать.
– А гроб кого попросим сделать? – встрепенулась она. – Может, Аверьян сколотит?
– Да, – ответил Шурка и сам сбегал к Аверьяну.
– Ладно, – сказал он и вечером явился с инструментами.
Он сделал гроб из досок, оторванных от сеновала, и из планок от щитов, которые были расставлены вдоль «ветки», чтобы защищать ее от снега. Шурка натаскал их, когда не было луны на небе.
Подметя, Авдотья бросила в печь стружки. Аверьян помог ей уложить жилицу в сделанный им гроб и вытер руки о штаны.
– Ну, очень вам обязана, – сказала ему, вежливо раскланиваясь с ним, Авдотья, когда он надел пальто и шапку.
– Не за что, – ответил он. – Я столько лет жил в вашем доме, и вы были мне как мать.
– Ах, что вы, – возразила она.
Утром, приведя с базара мужика с дровнями и поставив на них гроб, она пошла за ним с детьми, торжественная, и похоронила свою мертвую жилицу без попов.
– Не знаю, – говорила она встречным, – по какой религии она была прописана.
С холстом и с пестренькими ситчиками, оказавшимися в сундуке жилицы и в ее зеленом ящичке, Авдотья принялась опять за дело.
Мужики ей навозили дров. Муки она купила у Суконкина. Он торговал теперь без вывески и отпускал товар у себя в кухне. Иногда дверь в комнату была полуоткрыта, и Авдотья видела в щель Ольгу, вытирающую тряпкой стулья или шьющую, надев очки, или читающую книгу.
Ольге было восемнадцать лет, она была бесцветная, беловолосая и тощая, и, глядя на нее, Авдотья усмехалась.
Она снова пекла хлеб и пироги и продавала их на станции, а Шурка помогал ей. Поезда ходили не по расписанию, и они сидели с утра до ночи и ждали. Вдруг являлся воинский, товар весь раскупали, и тогда Авдотья отправляла Шурку притащить еще.
С Егоркой он теперь встречался редко, и ему не так хотелось теперь сделаться разбойником, как стать хорошим спекулянтом или перевозчиком и продавцом беспошлинного заграничного товара: все хвалили это дело и считали, что оно уж очень прибыльное.
Его шуба, сшитая когда-то Александрычем, была ему уже мала, и из брезента, оказавшегося в сундуке жилицы, ему сделали пальто с запасом на подоле и на рукавах, чтобы под осень, если будет нужно, можно было удлинить его.
Авдотьины приятельницы уверяли Шурку, что пальто это ему очень к лицу, и говорили ему всякие любезности, а он молодцевато взглядывал на них.
Под Благовещенье был день его рождения, ему кончалось девять лет, и в доме была выпивка. Явившиеся гостьи поздравляли его, пили за его здорбвьице и тормошили его. Он им говорил:
– Пошли вы!
И, освободясь от них, подмигивал им.
Скоро все разговорились, стали похваляться и рассказывать, как здорово им иногда везло. Тут Шурка вызвал мать из «зала» и предупредил ее, чтобы она помалкивала насчет случая с вещичками.
Две гостьи, одна низенькая, а другая дылда с крошечной физиономией и постным видом, вдруг переглянулись. Они жили на другом конце поселка, пришли вместе и сидели рядом. Они вспомнили, как летом, года этак два назад, казаки изрубили на Мамонихином поле семьдесят мадьяр из пленников. Мадьяры эти здесь квартировали, а работали на Кашкинских. Все скопом они шли домой с работы – и такая вдруг история случилась.
Низенькая с скромными ужимками рассказывала, а верзила на всех взглядывала и кивала.
– Всякий, кто успел узнать об этом, поспешил туда, и очень поживились тогда те, кто посильней. Мы сами, хоть уже и старенькие, а вернулись с тремя парами сапог и с разными вещами из карманов – кошелечками и часиками.
– Счастье ваше, что вы тамошние, – стали говорить им слушательницы. – А наш конец глухой, и всё у нас проходит мимо, по усам течет, а в рот не попадает.
Тут заблаговестили, и все перекрестились, а Авдотья, приподняв бутылку, показала ее гостьям.
– Ладно, дорогие мои дамочки, – сказала она, – что там? Всех кусков не схватишь. Бросим горевать, хлебнем еще разочек и пойдем ко всенощной.
Ее дела в то время удавались ей. Она была довольна и всегда сияла. Она сшила себе новенькое платье с голубыми птичками и сделала хорошенькую кофту из шинели. Всех своих детей она одела и обула.
– Прав ты был, – растроганная, говорила она Шурке, – что привел тогда к нам эту женщину. Теперь нас Бог вознаграждает за нее, за то, что мы ее призрели у себя.
Всё чаще между тем стало случаться, что, явясь к Суконкину, она не заставала у него товара. Приходилось отправляться к железнодорожникам разнюхивать, кто ездил за съестным, бросаться к нему, становиться в хвост и возвращаться зачастую с тем, с чем и пришла, – другие успевали узнать раньше и примчаться первыми.
Авдотья вспоминала теперь, как когда-то Аверьяну принесли письмо от Ольги. Если б он не пофорсил тогда, то через Ольгу можно было бы всегда осведомляться, нет ли у Суконкина чего-нибудь в продаже.
Скоро ничего уже нельзя было найти такого, чем бы можно было торговать. Жизнь у Авдотьи в домике опять пошла неважная, харчей стало в обрез, и Шурка пораздумал и решил, что нужно снова идти в жулики.
Уже было тепло, но, чтобы быть солидней, он надел свое брезентовое новое пальто. Он в нем пошел к Егорке, чтобы переговорить с ним, но его не оказалось дома. У него был тиф, и он лежал в больнице. Через полторы недели он там умер.
Один раз Авдотья, выйдя на канаву к козам, встретилась с Василием Ивановичем, земледельцем, и, разговорясь с ним, стала плакаться, а он ей предложил взять Шурку поливать огурчики на хуторе и ездить с лошадьми в ночное.
– Он при нас харчиться будет, – увлекательно сказал он, – и у вас одним ртом меньше станет.
Тут же он зашел за Шуркой, и, припрыгивая, чтобы не отстать от него, Шурка по дороге рассказал ему, какие из сельскохозяйственных работ он делал у Евграфыча.
Калитку им открыла земледельцева жена и сразу же послала Шурку натаскать соломы из соседских крыш. Три курицы квохтали, и она хотела посадить их. Люди же советовали ей, чтобы подстилка была краденая.
Шурка сказал «есть такое», сделал ей под козырек и через несколько минут примчался с ворохом соломы. Чалый был уже впряжён. Василий вынес Шурке квасу и пирог со свеклой и, когда он выпил, отворил ворота и повез его на хутор.
Там он его отдал под начало Гришке, своему племяннику, и Гришка показал ему, что делать.
Правая нога у Гришки была порченая, он хромал, и Шурка знал, что это доктор Марьин, когда началась война, устроил ему это.
Хутор доходил до речки Генераловки, и воду для поливки гряд накачивала лошадь. Она бегала по кругу и вертела колеса. Ковши черпали воду, лили в большой желоб, и оттуда она шла по маленьким. В них были дырки и затычки. Можно было вынимать их и, подставя лейку, наполнять ее и не ходить далёко. Шурке это интересное устройство так понравилось, что он захохотал, когда увидел его.
Гришка был большой любитель музыки и вечером после работы, сидя на крыльце барака, жалостно играл впотьмах на балалайке, а потом рассказывал, как здорово один американец отвечал своей невесте на её упреки, или задавал загадки, а когда их кто-нибудь отгадывал, то Гришка опечаливался и на время замолкал, брал снова балалайку и побренькивал, насупясь.
Шурка скоро подружился с ним и стал с ним обращаться покровительственно, он же, когда сам Василий не присматривал за ними, давал Шурке пожевать чего-нибудь сверх нормы и не очень донимал его работой.
Перед праздниками Шурка ездил с ним домой. Телега погромыхивала. Ноги, свешенные вниз, покачивались. Около дороги стоял лес. Попахивало свежими березовыми вениками.
Пешеходы, перекинув башмаки через плечо, шли сбоку по тропинке. Шурка их оглядывал, прикидывая, что с них можно снять, если убить их.
Гришка то молчал, то оживлялся вдруг и спрашивал, что больше весит – пуд железа или пуд муки, или какая лошадь, придя с луга, больше принесет травинок на спине – с хвостом или бесхвостая, и Шурка отвечал ему, что больше весит пуд железа, и что лошадь больше принесет травы бесхвостая: когда ее кусают мухи, ей приходится сгонять их мордой, и из той травы, которую она жует при этом, несколько травинок остается на ее спине.
Обратно они ехали с зарезанной на ужин курицей учительницы Щербовой, которая жила бок о бок с земледельцем, и когда они пускались в путь, им было слышно иногда, как Щербова разыскивает ее, бегает по переулку и выкрикивает:
– Пыри-пыри!
И тогда они смеялись и подмигивали в ее сторону и делали увеселительные жесты.
Уже лето почти всё прошло. Уже копали понемногу и возили на базар картошку. Шурку иногда пускали с возом одного, без Гришки, и тогда он останавливался перед своим домиком, Авдотья выходила с ведрами, и он ей насыпал в них.
Один раз, когда под вечер он снимал мешки, развешенные для просушки перед окнами барака, подкатил Василий и, с кнутом в руке, слезая с дрожек, крикнул ему:
– Твой отец приехал.
15
Шурка бросил все и побежал.
– На огурчики я, – говорил он дорогой, – поставлю теперь крест с прибором.
Темнело. Дорога пошла через лес. Там был мрак, точно ночью, и, может быть, были разбойники. Шурка не думал о них. Он бежал, останавливался на минутку, чтобы отдышаться, и снова бежал.
Наконец впереди посветлело немного, лес кончился, и перед Шуркой открылось то поле, за которым стоял его дом.
Огонька в доме не было.
Шурке, когда он постучался, открыла Авдотья.
– Приехал? – спросил он и бросился в дом. Человек на кровати со львом и кувшинчиками совал ноги в штаны.
Он вскочил, подтянул штаны кверху, Авдотья взяла Шурку за руку и подвела к нему.
– Вот он, – сказала она, – старший сын. Поздоровайся с ним. Пока ты околачивался невесть где, он был в доме хозяином, и без него я пропала бы.
– Ну, здравствуй, что ли, – сказал тогда Шурке отец и шагнул к нему.
Шурка ответил:
– Ну, здравствуй, – пожал ему руку и сел на скамейку.
Отец был похож на Евграфыча и на солдат – Петьку с Ванькой, но был ниже ростом и шире; и нос у него был короче, а под носом у него были красно-коричневые тараканьи усы. Он одет был в солдатское.
– Что же, – сказал он, – по-моему, ночь, – и они улеглись.
Утром Шурка узнал, что отец привез сала и три пуда муки. Затопили печь. Мать стала жарить лепешки. Отец подтащил к ней колоду и сел возле печки. Авдотья его не гнала, хотя он ей мешал. Он сидел, зажав руки коленями, двигал своими усищами и не сводил с нее глаз.
Две недели была суматоха. Приехала бабка Гребенщикова с сыновьями. Она привезла муки, сала и выпивки. Поговорили о том, почему отец Шурки так долго не ехал, о деде Евграфыче, деде Матвее и бабке.
– Диеспериху, – сказал Шурка, – за то, что разводит на улицах лужи, по-правильному, нужно было бы к стенке, – и все согласились с ним.
Начали пить и закусывать. Скоро мужчины, сняв ремни, надели их через плечо, сели вольно и стали покуривать. Петр пустил дым кольцом, посмотрел на него и сказал:
– Один раз мы стояли в резерфе, а он тут как тут.
Все придвинулись ближе. До позднего вечера братья рассказывали интересные случаи, происходившие с ними во время войны.
Петька с Ванькой теперь не пахали, скот продали и поступили на службу. Они взяли отпуск по случаю того, что вернулся их брат, пропадавший шесть лет.
Скоро начали делать визиты родным. Побывали у Ваньки Акимочкина, у литовки. Потом у себя принимали их. Были на кладбище. Там поклонились могилам, взглянули на обновившийся в прошлом году образочек и поудивлялись.
Потом все три брата отправились к тетке-просвирне, вернулись, и гости уехали. Скоро должна была быть однодневная перепись, и им хотелось в день переписи быть на месте.
– Как здорово вышло, – сказал отец Шурки, – что я подоспел как раз к переписи. Теперь буду записан с семьей.
– И действительно, – стали дивиться все. Шурка порадовался, что не будет записан на хуторе, при огурцах, а Акимочкин мрачно сказал:
– После переписи вы поймете, зачем она делается. Переписывала эту улицу Щербова.
– Вот к вам и я, – объявила она, входя в кухню, и предупредила, что ела чеснок. Она села с листками за столик. У каждого она между прочим расспрашивала о профессии, национальности и о родном языке.
– Под родным языком, – разъясняла при этом она, – понимается тот, на котором опрашиваемый обычно говорит с своей матерью.
– Мы, – сказал Шуркин отец, – извините, но все одной нации и говорим на одном языке.
– Не учите меня, – попросила она и прищурилась.
Шурка смотрел на нее и побаивался, что она его спросит, не он ли крал кур у нее этим летом, но Щербова, глядя в листки, записала еще кое-что о печах и надворных постройках, сложила бумажки, простилась и двинулась к главному.
Скоро опять Шурка начал учиться. Отец поступил в сельсовет на поселке при сахарном. Кроме того, он писал заявления для тех людей, у которых во время гражданской войны было что-нибудь забрано и им хотелось теперь получить возмещение, и за труды брал натурой. Он был теперь в доме хозяин, Авдотья обо всём с ним советовалась и возилась с ним так, что смешно было видеть, а Шурке теперь от нее был такой же почет, как Маришке с Алешкой, которым она столько лет говорила, что Шурка для них – как отец.









