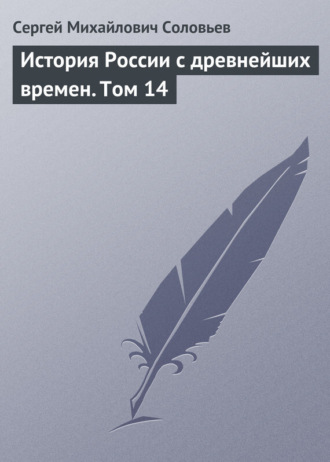 полная версия
полная версияИстория России с древнейших времен. Том 14
2 февраля 1684 года, в праздник Сретения, после обедни в Батурине народ собирался к гетманскому дому посмотреть, как поедет царский посланный, стольник Одинцов. Впереди шли стрельцы в цветных кафтанах, несли царское жалованье: аксамит (парча) серебряный, бай-берек (бухарская ткань из крученого шелку) коричный, два кречета, шесть осетров, вязигу, бочку лимонов, белугу свежую большую, тешу белужью, три юрлочные белуги, снятки свежие белозерские, снятки псковские, бочку вина ренского, бочку уксусу. За жалованьем ехал сам стольник, перед ним сидел подьячий с грамотою. У крыльца встретила посланного генеральная старшина, а в сенях у дверей сам гетман принял честно за руку, и пошли в светлицу, стольника вел гетман по правую руку. Войдя в светлицу, стольник от имени великих государей спрашивал гетмана о здоровье, хвалил его службу и подал грамоту. Самойлович, взявши грамоту, поцеловал в печать и на государской милости бил челом, спрашивал о здравии великих государей. Потом стольник спросил о здоровье генеральную старшину, и те били челом на государской милости. Поднесли царское жалованье, гетман опять бил челом и говорил: «Великая, преславная и неизреченная ко мне великих государей царей милость, и за такую милость, жалованье и призренье десятократно и стократно бью челом и впредь служить, всякого добра хотеть, против всякого неприятеля работать неотступно не только до крови, но и до смерти не забуду, как служил отцу и брату их государскому». В тот же день стольник и подьячий обедали у гетмана, и, когда пили чашу за царское здоровье, в то время трубили на трубах, играли в суренки, били по литаврам – веселился гетман безмерно.
Несмотря на это безмерное веселье, гетман был недоволен: он выдал дочь за боярина Федора Петровича Шереметева. Фамилия была знатная, но у гетманского зятя был еще жив отец, боярин Петр Васильевич, который мало давал сыну на содержание, а от царей богатого кормления не было, потому что боярин Петр жил не в ладах с Голицыным. Гетманская дочь терпела нужду, что очень огорчало отца, особенно мать. Самойлович говорил Одинцову: «На боярина князя Василья Васильевича досадовать мне нечего; случилось это не от боярина, моим несчастием, неужели бы я у великих государей не упросил или бы им не заслужил? Я и теперь со всем своим домом не могу утешиться; жена моя бедная и дочь глаза повыплакали; лучше бы мне было голову потерять, нежели такую беду видеть, что дома плач беспрестанный. Блаженной памяти великий государь царь Феодор Алексеевич обещал мне, если сыщу себе зятя, хотя бы и низкой породы, то пожалует его честью и крестьянами удовольствует. Теперь я бедную дочь свою выдал за человека высокой породы, за боярина Федора Петровича Шереметева, но утехи мне от этого никакой: что было у дочери моей платья, все в закладе и проедено; сват мой боярин Петр Васильевич к сыну своему не ласков, ничего сыну своему не дает и не поучит, как жить пристойно с добрыми людьми, честных почитать: кто от бога помилован и от великих государей пожалован, того надобно чтить. Мое бедное сердце оттого сильно сокрушается. А если бы великие государи пожаловали меня за мою верную службу, приказали зятю моему быть в Киеве, то я бы его всем ссужал и со всеми домочадцами его прокормил, в имения его послал бы своих верных людей, велел посеять хлеба всякого довольно, в огородах овощу, все было бы пристроено и убережено. Милости прошу у великих государей и у благородной государыни царевны, чтоб мое прошение боярин князь Василий Васильевич донес до них, чтоб приказали зятю моему быть в Киеве воеводою, а в товарищах послали бы окольничего Леонтия Романовича Неплюева: он человек добрый, в этих краях жить умеет, зять мой при нем учился бы. Ко мне была бы царская милость, а в здешнем малороссийском народе страх, что я гетман, а зять мой в Киеве воевода; желаю я этого не для того, что зятю моему в Киеве будет прибыльно, но для осторожности и страху малороссийского народа. Да и то бы государская ко мне превысокая милость, чтобы дочь моя со мною, с матерью, с братьями и сестрою увиделась и меж собою поговорили. А если зять мой что станет в Киеве делать непристойно, то я сам к нему поеду, или сына пошлю, или жену и дочь, и велю его уговаривать, чтобы жил между людьми приятно и поважно. А на боярина князя Василья Васильевича никакой досады я не имею, и никто ко мне не писывал, и хотя бы сват мой боярин Петр Васильевич и писал, то я бы ему не поверил, потому что он и сам к сыну своему не ласков. Я боярину князу Василью Васильевичу истинно обещаюсь, что я ему верный приятель и слуга; только ты донеси до его милости, чтоб он умилосердился на мои слезы и на плач всего моего дома, упросил великих государей и государыню благородную царевну, чтоб на весну зятя моего послали в Киев».
Стольник говорил гетману: «Желание твое непременно исполнится: великие государи отпустят к тебе зятя и дочь повидаться». – «Но какая мне от этого будет прибыль? – отвечал гетман. – И досталь зять мой испроторится и изубытчится; я и так посылал к нему деньгами, запасами, рыбою, мясом, однако не могу наполнить, а дорога дальняя, пуще людей изгонят и запасов потратят, а если бы был в Киеве, тут место близкое, и я бы его прокормил».
Голицын велел Одинцову спросить у гетмана, зачем он не послал своих малороссиян на комиссию русских уполномоченных с польскими? Самойлович отвечал: «Положился я на волю государскую, также и на боярина князя Василья Васильевича: что сделается на комиссии, и великие государи пожалуют, велят меня известить. Послать мне худых людей – ничего по них не будет; а послать добрых – и им непригоже за хребтом стоять».
В Москву по обычаю шли жалобы и доносы на гетмана; доносили, между прочим, что Самойлович корыстуется деньгами, получаемыми с винного откупа (аренды), тяжкого для народа. С предостережениями насчет этих доносов в июне приехал к гетману стольник Семен Алмазов. Самойлович, благодаря государей за предостережение, отвечал: «Удивляюсь и скорблю, что такая ложь залетела в высокий слух пресветлых монархов. Знаю, что если бы запорожцы соблюдали великим государям истинную верность, то ничего не говорили бы о делах, до них не касающихся. По наущению кошевого своего Гришки, надутого ляцким духом, они беспрестанно отправляют посольства в Польшу. Кошевой атаман со своими единомышленниками называет великих государей вотчимами, а короля польского отцом. Если запорожцы про регимент мой по неприятельскому польскому наговору зло говорят, то годны ли они веры? Да и киевские жители, именно мещане, лгать на меня не имели причины, потому что они не несут никаких тяжестей, кроме обычных в Малороссии. Разве то им стало нелюбо, что я обличил их и выговаривал им насчет ратушных немалых прибылей, из которых они, отдавая в казну монаршескую только три тысячи золотых, себе с лишком по десяти тысяч в год собирают; а в правах их старых постановлено, что они, кроме отдаваемого киевским воеводам, должны содержать воинских людей на оборону замка и города, кроме того, иметь пушки, пороховые и свинцовые запасы, чего теперь у них совершенно нет; лукавые мужики между собою доходы делят, а о том не радеют, что необходимо на будущее время для их безопасности. Мещане киевские желали бы того, чтоб в Киеве ни одного козака не было, а я, гетман, хочу, чтоб их было и много, потому что надобны. Киевские мещане и на царских воевод негодуют и на ратных людей жалуются, а делают это, как я выразумел, больше ложно, потому что хотят, чтоб их мужицкая прихоть исполнялась и никому не были бы обязаны почестию и повинностию. Что касается аренды, то она обновилась таким образом: мы при царе Феодоре Алексеевиче пресветлому престолу монаршескому доносили, что войска охотничьи, конные и пешие полки при городовых полках надобны, а платить им нечем, и великий государь хотя изволил уделить своей казны, однако впредь велел здесь промыслить денег. По тому монаршескому повелению старшина и полковники и всякого чина люди во время съезда своего в Батурине сидели и много думали, как бы промыслить денег и удовольствовать войско, и все чины постановили быть аренде, ибо от вина ни козаки, ни посполитые люди никакой прибыли не имели, одни шинкари чрезмерно богатели. Установлена аренда не новым вымыслом, обновлен старый обычай: и при Богдане Хмельницком аренда не прекращалась по обеим сторонам Днепра, и могло тогда с одного или двух полков столько денежной казны приходить, сколько теперь со всего краю приходит, а между тем на Хмельницкого за то никто не жаловался и никому тогда не было обиды. Арендовые сборы на срок не я, гетман, собираю, на то особые назначены люди, которым верить можно, и я рад был бы, если бы великие государи изволили кого-нибудь прислать от себя для очистки моей в тех арендовых приходах; до сих пор никто ко мне не отзывался с тем, что отягчен арендой. А войско охотничье, для которого аренды поставлены, держал я по воле монаршеской; да и кажется мне, надобно оно было здесь, потому что во время мятежа на Москве я этим войском удержал малодушие голов неспокойных, которые без того, побуждаемые польскою прелестью, возбудили бы раздоры. Покорно прошу милостивого себе указа: отменить ли аренды или оставить их по-прежнему для войска; если отменить аренды, то надобно и войско распустить, а распустить его, то оно обратится в польскую сторону, поляки тому будут рады; если отменить аренды, а войско не распускать, то на него надобно будет ежегодное призрение царского величества. А про свойственников моих такую даю очистку, что кроме сына моего Симеона Ивановича да племянника Михайлы Васильева на полковничестве нет, и держу их на этих местах в надежде, что от них полчанам никаких притеснений нет, а если послышу жалобы, то отставлю, будучи в состоянии и при себе их Прокормить. О зяте моем, боярине Федоре Петровиче Шереметеве, в палате монаршеской выросло размышление, что быть ему в Киеве на воеводстве, а теперь ему иное говорят место, И я должен сильно сокрушаться об этой перемене, потому что жалость мне великая и стыд пред всеми учинится, если после таких слухов зять мой в Киеве не окажется».
В ноябре приехал в Батурин к гетману один из самых бойких дельцов московских, думный дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев. Приехал он говорить с гетманом о двух великих делах: о старом деле, о союзе с польским королем против турок и татар, и о новом, об избрании киевского митрополита. Самойлович сильнее прежнего был против союза с поляками. «Для чего теперь с турками и татарами мир разрывать и войну начинать? Если пришлют к великим государям цесарь римский и король польский и станут их призывать против тех неприятелей в общую войну, то им можно отказать: великие государи заключили с султаном и ханом мир без всякой посторонней помощи, и теперь опять войну начать без причины нельзя. За что они сами, цесарь и король, воюют с турками, о том они великим государям не известили и сначала к союзу их не призывали».
– «Так цесарю римскому и королю польскому отказать непристойно, потому что многие государи христианские помогают им в этой войне», – возражал дьяк.
Гетман настаивал на своем, что отказать можно по многим статьям: «С турками и татарами у России мир; когда у нее была с ними война, никто ей не помог, без стыда отказывали, что не могут разорвать мира; потом – как помогать? К цесарю ратных людей послать – несносно и никогда не бывало; к польскому королю послать под Каменец, к Дунаю и за Дунай – тоже нестаточное и несносное дело; на Крым войско послать – на цесаре и короле какую присягу взять, что они великих государей в этой войне не выдадут и особого мира не заключат? Поверить присяге их? Но присяга их не крепка: папа разрешает их в присяге. Одним походом всего Крыма не завоевать; возьмем городки – турки придут и станут их добывать, а нам защищать их трудно, потому что на зиму рати надобно оттуда выводить, а если там оставить, то от голоду и от поветрия тамошнего многие помрут и оцынжают. А главное, – покончил гетман, – я полякам не верю: они люди лживые и непостоянные и вечные народу московскому и нашему козацкому неприятели».
– «Объяви, – спрашивал дьяк, – в чем особенно польский король показал к нам недоброжелательство?»
– «Удивительно, что ты об этом меня спрашиваешь, – отвечал гетман, – когда в Москве между ратными людьми была смута, он этому радовался и, желая большего зла, разослал к нам лазутчиков с прелестными письмами, возмущая народы: как бесчестил бояр и думных людей? султана и хана уговаривал к войне против государей; теперь недавно, без государева ведома, донских козаков и калмыков к себе на помощь призывал и многих подговорил, которые и теперь при нем. А меня беспрестанно хлопочет, как бы отравить, зарезать или застрелить. Я крепко осторожен: никого из Польши и из Литвы не принимаю не только в двор свой в службу, но и в города поднепровские не велю принимать, ни чернецов и никаких других людей, потому что если бы сделать в этом послабление, то давно бы уже я был изведен или бы в Украйне от тех бродяг великая произошла смута. А какие прелестные письма в смутное время на сю сторону Днепра и за пороги вкинул? Я и до сих пор от них сокрушаюсь, непостоянные люди за них ухватились и теперь держатся, и, как ни радею, однако, этого духа искоренить не могу».
– «Великие государи, – говорил Украинцев, – хотят в это дело вступить не для того только, чтоб помочь цесарю римскому или королю польскому; если вечные неприятели церкви божией, турки и татары, теперь осилят цесаря и короля польского и приневолят их к миру, то потом встанут войною и на нас; на мир надеяться нечего: они привыкли мир разрывать; тогда к ним и польский король пристанет, и ему помощь подадут настоящие его союзники – цесарь, папа и республика венецианская».
– «Как угодно великим государям, – отвечал гетман, – а мне кажется, нет причины с султаном и ханом мир нарушать. Этот мир после великой и страшной войны заключил блаженной памяти великий государь царь Феодор Алексеевич беспрестанным, премудрым промыслом и усердным старанием, да и моя служба и раденье в том были. А теперь этот мир разорвать, мне кажется, неприлично и не для чего. Буди в том их государское и сестры их великой государыни цесаревны святое и премудрое рассуждение и пресветлой их палаты здравые советы; но и начать войну, мира искать же, только не скоро его тогда сыщешь, тот же король польский начнет тогда ссорить, чтоб царская казна истощалась, а ратные люди гинули на боях. И в мысли нельзя держать не только нам, но и детям нашим, что поляки когда-нибудь перестанут к нам враждовать. Мне кажется, что лучше держать мир, а на поляков оглядываться, с турками и татарами поступать разумно. А войну из-за чего начинать? Прибыли и государствам расширения никакого не будет, до Дуная владеть нечем – все пусто, а за Дунай далеко. Валахи все пропали, да хотя бы и были, то они люди непостоянные, всякому поддаются; король польский возьмет их себе: что ж, из-за них с ним ссориться? довольно и старых ссор! Крыма никакими мерами не завоюешь и не удержишь. Воевать за церковь божию? Святое и великое намерение, только не без трудности. Церковь греческая в утеснении там пребывает, и до святой воли божией быть тому так; а тут вблизи великих государей церковь божию король польский гонит, все православие в Польше и Литве разорил, несмотря на договоры с великими государями».
– «Турки и татары – вечные христианские неприятели, – повторял Украинцев, – теперь они с нами мир сохраняют поневоле, потому что ведут войну с поляками и немцами; теперь-то над ними и время промышлять. Теперь все государи против них вооружаются, а если мы в этом союзе не будем, то будет стыд и ненависть от всех христиан, все будут думать, что мы ближе к бусурманам, чем к христианам».
– «Зазору и стыда в этом ни от кого не будет, – отвечал гетман, – всякому своей целости и прибыли вольно остерегать; больше зазору и стыда – иметь мир да потерять его даром, без причины. Поляки лгут, будто им христианские государи хотят помогать. Если они теперь помирятся с турками и встанут на нас, то можно против них татар приговорить; если великим государям угодно, то я непременно сделаю, что татары всегда будут при нас».
– «Не пожелают великие государи бусурман нанимать и наговаривать их на разлитие крови христианской», – сказал Украинцев.
– «Какой в том грех, что призвать татар на помощь? – отвечал гетман. – Для чего короли польские их призывали на войну против Московского государства? Татары подобны мечу острому или городу крепкому; христиане носят же при себе меч для победы над неприятелем и обороны. Кто ни есть, только б мне был друг и в нужде помощник».
– «Государства у их царского величества пространные и многолюдные, – говорил Украинцев, – теперь многие люди ищут и желают службы, без войны жить не привыкли, а прокормиться им нечем; донские козаки беспрестанно бьют челом великим государям, что у них река улюднела, беспрестанно козаки думают о войне, без которой прокормиться им нечем; если не послать их на войну, то надобно давать большое жалованье. Если теперь службы не будет, то опасно от такого многолюдства, чтоб ратные люди и донские козаки не начали какого-нибудь нового дела; да и в малороссийских городах большое многолюдство, охочие и городовые полки желают службы; чтоб они не встали и над тобою какого зла не сделали, подумай об этом!»
– «У меня везде остережено, – отвечал гетман, – везде полковники – верные и надежные люди; если бы чернь на меня и зашевелилась, то у меня охочих конных и пехотных полков тысячи с четыре готовы да стрельцы московские. Гораздо опаснее, когда московские и малороссийские войска будут в соединении во время войны, тут, пожалуй, побьют бояр и воевод и меня, тут и польская какая-нибудь хитрость будет. Посмотрел я, когда был вместе с князем Ромодановским: бывало, велит боярин идти какому-нибудь полку на известное место, куда необходимо, и от полковников начнутся такие крики и непослушанья, что трудно и выговорить. У нас в полках и не такие люди, вольница, но если я прикажу идти – идут без отговорки. В Москве не надобно много ратных людей держать, надобно рассылать их по порубежным городам и занимать их там городовыми постройками; а в Москве держать полк, другой верных пожалованных людей; донских козаков чтоб поубавить, послать против черкес или кумыков».
Думному дьяку не удалось переспорить гетмана, который стоял на одном, что не следует менять золотой мир на железную войну. Украинцев кончил спор о войне и занялся другим важным делом. В Батурине, в Крупецком монастыре, жил епископ луцкий, князь Гедеон Святополк Четвертинский, ушедший из своей епархии от католического гонения. Думный дьяк отправился к епископу с вопросами о замыслах и поведении короля польского: для чего он, епископ, приехал в малороссийские города, давно ль посвящен в епископы, где и кем?
– «У короля и сенаторов, – отвечал Гедеон, – слыхал я много раз, что они, улучив время, хотят войну начать с великими государями; а теперь какое у них намерение и поведение, того я не знаю. Приехал я сюда потому, что от гонения королевского мне житья не было, все неволил меня принять римскую веру или сделаться униатом; и теперь, идучи в поход, сам король и королева сказали мне, что когда король придет с войны, а я римлянином или униатом не сделаюсь, то меня непременно сошлют в вечное заточение в Мариенбург. Я испугался и прибежал сюда, желая здесь кончить жизнь в благочестии. При мне еще держались благочестивые люди многие, а теперь без меня, конечно, король всех приневолит в римскую веру, он притом стал упорно, чтоб благочестивую веру в Короне и Литве совершенно искоренить. В архиереи я посвящен Дионисием Балабаном, митрополитом киевским».
Повидавшись с епископом, Украинцев имел разговор с гетманом об избрании митрополита в Киев. «Я всегда этого желал и хлопотал, – сказал Самойлович, – чтоб в Малой России на киевском престоле был пастырь; теперь дух св. влиял в сердца великих государей и сестры их, что прислали они тебя с указом об этом деле. Я стану около этого дела радеть и промышлять, с духовными и мирскими людьми советовать, а думаю, что иным малороссийским духовным будет это нелюбо. Прошу у великих государей милости, чтоб изволили послать к святейшему цареградскому патриарху – да подаст благословение свое и уступит малороссийское духовенство под благословение московских патриархов. Да чтоб пожаловали великие государи меня и весь малороссийский народ, велели нам и вперед выбирать у себя в митрополиты вольными голосами по нашим правам. Знаю я подлинно, что это дело не любо будет архиепископу черниговскому (Лазарю Барановичу). Ему и то не любо, что епископ луцкий приехал сюда, в Малороссию, говорит: „Разве его митрополитом киевским сделать, а то другого ему места нет“. А епископ – человек добрый и смирный, никакой власти не желает».
– «Если у архиепископа черниговского ненависть к епископу луцкому, – сказал Украинцев, – то ты бы, гетман, скоро его, епископа луцкого, в Москву не отпускал; пусть прежде духовные и мирские люди выберут митрополита в Киев».
Отпуская Украинцева, гетман сделал новое предложение: «Указали бы великие государи в Киев, Переяславль и Чернигов перевести на вечное житье русских людей (великороссиян) с женами и детьми, тысяч пять или шесть, и этим малороссийский народ обнадежился бы, что государи никому Малороссии не уступят, а поляки бы пришли в отчаяние».
Самойлович не удовольствовался тем, что говорил Украинцеву против польского союза; он послал с ним в Москву на письме длинный перечень причин, почему опасно было вступать в союз с польским королем. «Под игом турецким, – писал гетман, – обретаются народы православной греческой веры, валахи, молдаване, болгары, сербы, за ними многочисленные греки, которые все от папина начальства укрываются и утешаются одним именем русских царей, надеясь когда-нибудь от них получить отраду. Известно, что папежаны усердно хлопочут в Иерусалиме овладеть гробом господним. Если бы чрез вступление царских величеств в союз цесарю римскому и королю польскому посчастливилось овладеть турецкими областями и принудить тамошние народы к унии, в самом Иерусалиме возвысить римский костел и понизить православие, то от этого все православные народы получили бы неутолимую жалость. Следовательно, надобно пред вступлением в союз выговорить безопасность православия, ибо великим государям союз этот может быть нужен только для сохранения и умножения православия да для того, чтоб здесь расширить границу нашу по Днестр и по Случ, а без корысти для чего вступать в союз? Да если бы поляки и обязались уступить эти рубежи и не трогать православия, то никогда не сдержат обещания, ибо папа разрешит от присяги. Царских подданных, калмыков и козаков донских и запорожских, тайными подсылками и прелестями поляки к себе перезывают; из всего видеть можно, что поляки преславному российскому царству враги; за одну веру нашу греко-российскую которую они уничтожают и искореняют, надобно бы с ними всем православным христианам побороться. Если великим государям угодно будет непременно вступить в союз, то не удобнее ли будет по крайней мере, отложить его, чтоб дать войскам отдохнуть и укрепить границу?»
В январе 1685 года приехал в Москву старший канцелярист Василий Кочубей с предложениями от гетмана – удержать реку Сожь, ввести Запорожье в исключительное владение великих государей. «А так как вся тамошняя сторона Днепра, Подолия, Волынь Подгорье, Подляшье и вся Красная Русь всегда к монархии русской с начала бытия здешних народов принадлежали, то безгрешно бы было свое искони вечное, хотя бы и потихоньку, отыскивать усматривая способное время». Кочубей подал перехваченную грамоту королевскую к белоцерковскому протопопу с увещанием поднимать малороссиян к соединению с Польшею. «Нет такой цены и такого иждивения, какого бы я пожалел на воздвигнутие воинства козацкого и всего народа российского», – писал Собеский.
Касательно второго дела, митрополичьего избрания, гетман уже дал знать об нем знатнейшему духовенству, и Кочубей привез в Москву ответные грамоты к Самойловичу от черниговского архиепископа, также от киево-печерского архимандрита Варлаама Ясинского и других игуменов киевских монастырей: все благословляли мысль великих государей дать пастыря первейшей русской митрополии. Кочубей объявил об епископе луцком, Гедеоне, что он был очень болен, едва не умер; болезнь приключилась ему с того времени, как приехал его священник из Москвы и привез ему царскую грамоту, в которой епископ не был назван князем, тогда как король польский в своих грамотах всегда называл его князем; епископ – человек мнительный, ему показалось, что на него за что-нибудь государский гнев; если бы епископ умер, то в Польше обрадовались бы, разгласили бы, что бог покарал его за покинутие своей епархии. Гетман велел Кочубею доложить князю Голицыну: можно ли епископу приехать в Москву, поклониться великим государям?
Цари отвечали, что перемирия с Польшею нарушить нельзя, и сколько остается лет этому перемирию, гетману и всему войску известно, следовательно, когда придет время, поляки примут месть от бога за гонение на православную веру, чего великие государи усердно желают и впредь желать будут. За труды по избранию митрополита великие государи гетмана милостиво и премилостиво похваляют, пусть старается окончить это дело немедленно.









