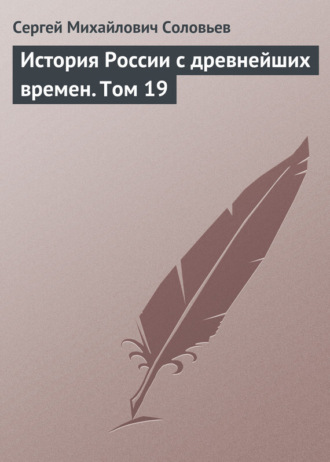 полная версия
полная версияИстория России с древнейших времен. Том 19
Но к весне 1727 года военная гроза стала собираться на другой стороне: испанцы начали осаду Гибралтара, ждали открытия военных действий между Австриею и Франциею, а Россия последним договором обязалась в случае нападения на Австрию помогать ей войсками. Это очень тревожило французское правительство, во главе которого стоял миролюбивый, робкий кардинал Флери. На конференциях с Куракиным Флери уверял, что Франция первая не нападет на императора, почему русская государыня не будет иметь никакой обязанности двигать своих войск; да и во всяком случае можно уклониться от этого обязательства, потому что обыкновенно война начинается так, что трудно разобрать, кто первый напал. Флери толковал также, что Англия не думает предпринимать что-нибудь против России, но высылает эскадру в Балтийское море только для того, чтоб защитить Данию от России, которая своими вооружениями грозит нарушением покоя на Севере.
Итак, союз с Австриею, о котором шли такие длинные и бесполезные переговоры при Петре Великом, действительно был заключен при его преемнице и возбуждал такое опасение на Западе. Во время предсмертной болезни Петра посланник его в Вене Ланчинский хлопотал о приступлении Австрии к шведскому союзу и о том, чтоб цесарь помог в деле возвращения герцогу голштинскому Шлезвига. Ему отвечали: «Окажите нам полную доверенность, а не половинную, как теперь делается; ищите помощи у цесаря, чтоб герцогу голштинскому достался Шлезвиг: здешний двор на это согласен, но в то же время с особенным старанием ведете вы переговоры с Франциею и Англиею не только о том же деле, но и о примирении с Англиею, а нам о ходе этих переговоров ничего не сообщаете, и по всему ясно, что на других вы полагаете большую надежду. Мы хорошо помним, в каком положении находились мы с своим титулярным посредничеством северного мира: одна воюющая держава за другою отдельно примирялись, а мы. державши столько лет министров в Брауншвейге и понесши немалые убытки, принуждены были прекратить конгресс бесплодно и не к чести себе. Не упоминаем других случаев: всегда нас к делам после праздника приглашаете, к чему мы не привыкли. Если надеетесь, что мы можем помочь, то ищите помощи; если же рассуждаете, что и без нас через других можете достигнуть своих целей. то не беспокойте нас». В Вене ждали, чем кончатся переговоры о примирении России с Англиею, и до того времени не хотели высказываться.
Когда Ланчинский в торжественной аудиенции объявил Карлу VI о кончине Петра и о вступлении на престол Екатерины, то цесарь сказал внятно: «Ныне правительствующая царица нас обнадеживает о желании своем продолжать дружбу, к чему и мы с нашей стороны охотно способствовать будем». Потом император сказал еще слов с двадцать, но невнятно, так что посланник ничего не понял. Осенью Ланчинскому начали внушать, что Франция действует в Константинополе против России и Австрии. Когда Ланчинский выведывал, что думает венский двор о браке французского короля на дочери Станислава Лещинского и не принимаются ли по этому случаю какие меры с польским королем, то ему отвечали: «Оставьте мысль, будто наш двор имеет намерение помогать наследному принцу саксонскому в получении польской короны: такое намерение было бы явно против интереса цесарских дочерей; разве захочет наш двор усиливать дом саксонский для того. чтоб после он помешал цесарской дочери получить в наследство австрийские земли или по крайней мере мог что-нибудь отторгнуть от Венгрии, Силезии или Богемии; если бы еще у цесаря были сыновья, то могло бы еще быть подозрение, хотя также неосновательное, ибо интерес цесаря требует, чтоб польское правление оставалось в безурядице. Правда, двору нашему супружество французского короля с дочерью Лещинского не совсем приятно, но опасность от Лещинского еще очень далека; не видно, чтоб он был очень честолюбив; если же что вперед от него окажется, то в свое время и меры принять можно. Теперь в Европе образуются две партии: в одной – цесарь, Испания и другие державы, которые захотят с ними соединиться; в другой – Франция и Англия с союзниками; так вашему двору надобно решиться однажды навсегда, нашей ли или противной стороны держаться».
Успехи турок в Персии произвели очень неприятное впечатление в Вене, и хотя на требования Ланчинского, чтоб не оставались при этом равнодушными и подумали о следствиях, отвечали, что дело идет в дальнем от них расстоянии, пусть морские державы и Россия об нем заботятся, однако известия с Дальнего Востока не могли не иметь влияния на склонность венского двора удовлетворить давнему требованию двора петербургского приступить к шведско-русскому оборонительному союзу. При этом Ланчинский получил следующие вопросы: 1) в оборонительном договоре России с Швециею означены только европейские державы, и потому в Вене желают знать, угодно ли русской государыне внести в договор и турок? 2) О Польше надобно объясниться откровенно, особенно о Курляндии; надобно постановить ненарушимым правилом, что Польше оставаться при своей вольности и без ущерба земель, ибо интерес обеих сторон того требует. С русской стороны надобно с Польшею обходиться приязненнее, потому что она не только в общую партию годна, но и в действиях против турок полезна. Можно думать, что Россия хочет если не удержать Курляндию, то по крайней мере отдать ее принцу, который должен жениться на одной из русских принцесс; надобно знать, какой это принц. В это время Восточную Европу сильно занимало возмущение, вспыхнувшее в Торне вследствие столкновения протестантов с католиками; протестантские державы считали своею обязанностию вступиться за своих одноверцев и не выдавать их польскому правительству. Австрийские министры внушали Ланчинскому, что надобно и в торнском деле поступать умеренно, и так как видно, что прусский король под этим предлогом хочет отторгнуть от Польши какую-нибудь провинцию, то, кажется, надобно с русской стороны объявить прусскому королю, что Россия не может допустить Польшу до разорения, а тем менее до уменьшения ее государственной области. 3) Надобно обозначить подробно о числе войска и о способе, каким Россия намерена помогать герцогу голштинскому в возвращении ему Шлезвига. «Знайте, – внушали Ланчинскому, – что все противности происходят от английских интриг; вам через кого-нибудь третьего советуют удержать Курляндию, может быть, для какого-нибудь гессенского принца; вам обещают от того славу, а на самом деле стараются поссорить вас с Польшею. Также стараются через прусского короля поднять войну, будто за религию, а на самом деле хотят вас и нас засуетить, чтоб мы не были в состоянии помочь герцогу голштинскому, ибо дело известное, что у нас с Польшею старый союз и в торнском деле мы не можем оставить ее без помощи: и если б за Курляндию вы поссорились с Польшею, то как в таком случае поступать нашему двору, чью сторону держать?»
Ланчинский получил от своего двора поручение вести переговор о союзе; к петербургскому двору, где до сих пор находился только секретарь посольства, отправлен был послом граф Рабутин. Испанский посол, известный Риперда, устроивший союз между Австриею и Испаниею, приезжал к Ланчинскому «зело откровенно и ласково обошелся и, равно как есть нрава зело усердного, так без всяких обстоятельств объявил», что двор английский, увидев признаки союза между Россиею, Австриею и Испаниею, понизил голос и начинает искать примирения в Вене.
«Но я, – говорил Риперда, – всячески буду этому мешать, потому что всё – обман, стараются только о том, как бы опять разъединить и произвести холодность: я уже получил полномочие договориться с вами и Швециею о наступательном и оборонительном союзе, причем король мой согласен гарантировать герцогу голштинскому Шлезвиг; другое полномочие получил я на заключение такого же договора с Португалиею, и необходимо все это дело должно быть окончено в нынешнем году».
Но в конце 1725 года дело только началось и шло очень медленно. В начале 1726 года Ланчинский был у принца Евгения с повторением многократных прежних представлений, чтоб венский двор принял во внимание усиление турок в Персии, что вредно как всему христианству, так особенно цесарю. Принц отвечал, что английский посланник в Константинополе подучает турок к войне против России и Австрии и для того советует им помириться с ханом Эшрефом, причем хвастается ганноверским трактатом. «Мы, – говорил принц, – разумеется, обращаем большое внимание на турецкие дела, и к нашему резиденту при Порте скоро отправлен будет указ, чтоб обходился с русскими министрами откровенно и помогал им при всяком случае». Когда после этого Ланчинский начал говорить ему, чтоб поскорее составлен был проект союзного договора, то принц отвечал, что венский двор вполне уверен в желании России заключить с ним союз, точно так же как и Австрия желает этого, но сильно сомневается относительно Швеции, которая, по многим известиям, близка к ганноверскому союзу: действуют деньги, англичане 100000 фунтов переслали в Швецию; но во всяком случае цесарь готов заключить союз с Россиею и без Швеции. Оказывалось, что в Вене хотели, чтоб Россия приступила к союзу на тех же условиях, на каких приступила к нему Испания; надеялись, что одно заключение союза между Россиею и Австриею удержит турок от враждебных действий против обоих дворов; в случае же если бы английские внушения в Константинополе взяли верх, то надеялись управиться с турками в союзе с Россиею, к которому должна была пристать и Венеция: эта республика сильно встревожена была успехами турок в Персии и толковала о возобновлении священного союза.
В апреле 1726 года приехал в Петербург чрезвычайный цесарский посланник граф Рабутин. После долгих переговоров с ним и пересылок с Ланчинским последний заключил наконец в Вене 6 августа 1726 года договор между «освященным цесарским и королевским католическим величеством и освященным всероссийским величеством». Цесарь приступил к союзу, заключенному между Россиею и Швециею в 1724 году, а русская государыня приступила к мирному трактату, заключенному между Испаниею и Австриею в 1725 году, вследствие чего приняла на себя гарантию всех государств и провинций, находящихся во владении цесарском, так что если кто нападет на цесаря по причине заключенного им договора с Испаниею или по какой-нибудь другой причине, то русская государыня подает ему помощь и в случае нужды объявляет войну нападчику и не заключает с ним мира, пока цесарь не получит удовлетворения. Цесарь с своей стороны перенимает гарантию всех государств и областей, находящихся во владении ее всероссийского величества в Европе, и, если кто нападет на нее по какой бы то ни было причине, обязуется подать помощь и в случае нужды объявить наступательную войну и не заключать мира, пока Россия не получит удовлетворения. Договаривающиеся державы обязуются не давать убежища и помощи взбунтовавшимся подданным и вассалам друг друга, и, узнавая о вредных умыслах, немедленно друг другу сообщать о них, и содействовать их уничтожению. Относительно взаимной помощи в случае вражьего нападения условлено, что обе державы присылают друг другу по 30000 войска, именно 20000 инфантерии и 10000 драгун. Если бы Россия вознамерилась вооружить флот и употреблять его с согласия цесаря, то флот этот имеет безопасное пристанище не только во всех цесарских, но и в испанских владениях. Положено пригласить к заключаемому союзу короля, королевство Польское и окончательно примирить их с Швециею. Кроме того, цесарь обещал помогать герцогу голштинскому в возвращении Шлезвига, и, наконец, в секретнейшем артикуле обязательство цесаря – подавать помощь вообще против всех нападчиков – было повторено именно относительно Турции.
По отношениям к Востоку сочли необходимым заключить союз с Австриею, но, разумеется, не хотели быть принужденными исполнять условия союза вследствие войны Австрии с ганноверскими союзниками и поэтому сильно хлопотали о примирении Франции с Испаниею, чтоб отнять у Франции необходимость держаться Англии. В начале 1727 года Ланчинский говорил австрийским министрам, чтоб они похлопотали о примирении Франции с Испаниею. Принц Евгений отвечал ему: «Мы сами этого желаем, но добрым способом, а Франция желает этого своим способом». В Вене не надеялись на мир, готовились к войне, вследствие чего и Россия должна была двинуть корпус войск к границам».
В Польше в начале царствования Екатерины особенно занимал вопрос торнский. Зная, что Петр уже являлся в Польше покровителем не одного православного русского народонаселения, но и всех диссидентов, министры протестантских дворов в Варшаве обратились к русскому министру князю Сергею Григорьевичу Долгорукому с требованием, чтоб он вместе с ними поддерживал торнских протестантов. Но Долгорукий советовал своему двору поступать осторожно. «В деле торнском, – писал он, – лучше нейтрально поступить, потому что если б, паче чаяния, у польского двора с прусским произошло столкновение, то ваше величество будете тогда в состоянии принять посредничество; также надобно смотреть, чтоб не привести поляков в отчаяние и не дать саксонскому двору повода исполнить свое намерение, ибо, когда поляки увидят вашего величества соглашение с двором прусским, которого они опасаются и вообще ненавидят, тогда, не видя себе ниоткуда надежды, принуждены будут принять предложение австрийского посланника графа Вратислава и заключить союз с двором цесарским. Поляки прусского двора не боятся, торнского декрета для него не изменят и почти все желают войны с Пруссиею, но при этом по внушению придворных креатур опасаются, что ваше величество вооружитесь против них вместе с прусским королем».
В Могилеве Рудаковский продолжал свою комиссию. От 24 февраля 1725 года он написал еще на имя Петра любопытное донесение: «В здешних краях от злоковарственных и злозамышляющих врагов побликуются сердце и утробу мою проникающие ведомости, что будто ваше императорское величество соизволил переселитися в небесные чертоги, чему я, раб ваш, не имея известия от двора вашего величества, весьма веры дать не могу. Слыша об этом, мухи мертвые нос поднимать начинают, думают, что Русская империя уже погибла, всюду радость, стрельба и попойки, и мне от их похвальбы из Могилева выезжать нельзя, да и в Могилеве жизнь моя небезопасна». Известие о спокойном воцарении Екатерины вывело Рудаковского из тяжелого положения: он поднял голову в свою очередь и начал толковать, что новая императрица не оставит в сиротстве церковь восточную, но будет всеми силами ее оборонять, как единая благочестивая государыня и протекторка святого благочестия. Донося о слухе, что будет война между Польшею и протестантскими державами по поводу торнского дела, Рудаковский писал: «Смеху достойна отвага здешнего народа, у которого нет ни денег, ни магазинов, ни войска, ни пушек, ни мелкого оружия, который надеется на одни свои сабли, да и те уже очень позаржавели; правда, мелкая шляхта сядет на коней, но не для сопротивления неприятелям, а только для грабежа и разорения своего отечества. Если этот огонь загорится, то ни я, ни князь Четвертинский, епископ белорусский, не можем оставаться здесь спокойно; да хотя бы огонь и не загорелся, то мне без отряда русских воинских людей оставаться здесь нельзя, потому что многие из шляхты присягнули лишить меня жизни; особенно враждебен мне за мою горячность к восточной церкви шляхтич Петр Свяцкий».
Страх перед последствиями торнского дела был выгоден для православных, которых теперь на время оставили в покое.
В апреле 1725 года Рудаковский был вызван в Петербург, по какому случаю канцлер писал епископу Сильвестру, князю Четвертинскому, чтоб он не сомневался относительно этого вызова: императрица не оставит православных без защиты, и как скоро Рудаковский даст отчет о подлинном состоянии православных в Польше, то или он возвратится, или кто-нибудь другой будет отправлен на его место. В ответ на уведомление канцлера Четвертинский писал сам императрице: «Отзыв Рудаковского сильно опечалил церковь божию и меня с православными, как корабельщиков на море при усилившихся жестоких ветрах. Слезно прошу, да изволите подать руку помощи мне, окруженному отовсюду смертными злоключениями, и немедленно отправить к нам какую-нибудь особу, дабы заступал нас, как господин комиссар, здесь обретавшийся, или его же самого, потому что он знает здешний край и его обычаи, стоял за правду и не молчал против врагов наших».
Опасения епископа не были напрасны. В июне он писал императрице: «По отъезде комиссара из Могилева двоих служителей моих посадили в тюрьму безо всякой причины, оковали им руки и ноги, стоящих к стене за шею приковали и шесть недель голодом морят; боясь такой же беды, прочие духовные и мирские люди разбежались, оставя меня с одним священником. Если не прислан будет скоро комиссар, то принужден буду оставить церковное правление. Тем сильнее действуют иезуиты на могилевских мещан, которые не надеются больше на русское покровительство. Также недавно прислали ко мне мещане бешенковицкие с жалобою, что православный священник от них изгнан и скоро они принуждены будут сделаться униатами. Виленский бискуп Чернявский постановил, чтоб церкви православные не строились выше школ жидовских; в Орше запрещено строить каменные церкви, а частные обиды делаются православным каждый день».
Но в то же время пришел в Синод донос на Сильвестра из полоцкого Богоявленского монастыря, вследствие чего Синод отправил к нему такое послание: «Радуемся духовно о вашем благочестии, в котором белорусская епархия в том же с великороссийскою и всею восточною церковию соединении непоколебимо пребывает. О сем радуемся, яко о общем нашем и вашем спасении. Не беспечални же есмы, слышаще о других делах твоих, неприличных православному епископу, а именно: будто ты, господин епископ, не по бозе и не по доброй совести, но по властолюбию православные монастыри, не подлежащие твоей власти, вооруженною силою наезжая, под власть свою подбиваешь и по сребролюбию своему грабишь, противящихся озлобляешь и убиваешь и своего, похищенного тобою просящих предаешь анафеме и прочая и прочая. Аще убо помянутые непотребные дела в тебе обретаются, господин епископ, престани по доброжелательному нашему совету оными славитися себе на бесчестие: не простирай насильно власти твоея за пределы епархии твоея, в монастыри, подлежащие Киевской кафедре; похищенное возврати полоцкому Богоявленскому монастырю по реестру, при сем написанному, и к клятве не буди скор».
Между тем в мае того же 1725 года по поводу сейма назначен был опять чрезвычайным министром в Польшу князь Василий Лукич Долгорукий, который по приезде в Варшаву нашел на первом плане торнское дело. В сентябре он писал императрице: «По состоянию здешних дел наилучший способ в торнском деле тот, чтоб склонять обе заинтересованные стороны к принятию медиации вашего величества; для этого нужно, чтоб короли английский и прусский и другие государства, вступающиеся вместе с ними за диссидентов, не ослабевали в своих домогательствах, требуя скорого окончания дела, употребляя угрозы словом и делом, а я в это время всеми способами буду склонять поляков к принятию медиации вашего величества и поступать с ними умеренно». В следующем месяце Долгорукий донес: «Не видя совершенно твердости в поступках протестантских государей, я до сих пор в торнское дело горячо вступать не хотел, чтоб прежде времени не показать намерение вашего величества и тем не озлобить которой-нибудь из заинтересованных сторон».
К концу 1725 года торнское дело затихло, потому что Пруссия, принявшаяся было так горячо за него, испугалась возможности религиозной войны и ослабела в своей настойчивости. Вместо торнского дела на первый план выдвинулось дело курляндское. Мы видели, что в ожидании смерти старого и бездетного герцога Фердинанда соседние державы хлопотали, чтобы будущность Курляндии устроилась согласно с их интересами, причем дело усложнялось и затруднялось тем, что претенденты на курляндский престол должны были вместе быть и женихами герцогини-вдовы Анны Иоанновны. Короли польский и прусский предлагали своих кандидатов; Россия колебалась и медлила, не желая проводить влияния этих королей на Курляндию, а поляки хотели присоединить Курляндию к своему государству как выморочный лен, разделить ее на воеводства, чего никак не хотели допустить Россия и Пруссия, чего не хотел и король польский, хотя явно и не мог этому противодействовать. Самые влиятельные польские вельможи говорили Долгорукому: «Курляндия, бесспорно, принадлежит Речи Посполитой; республика готова оружием защищать свои права и не допустить, чтоб Фердинанд имел преемника, зная, что новый курляндский князь будет иметь родственников или друзей, отчего Речи Посполитой великие беспокойства и опасность, а Речь Посполитая в своих владениях хочет быть спокойна и для того не пожалеет не только денег, но и крови». До сих пор дело шло тихо, потому что претенденты действовали только дипломатическим путем, посредством покровительствовавших им дворов, но теперь явился претендент, который захотел взять с бою невесту и герцогство. То был молодой Мориц, граф саксонский, побочный сын польского короля Августа II. Мориц, уже заключивший раз брак по расчету с богатою наследницею Викториею фон Лебен, развелся с нею и теперь искал другой богатой невесты. Такою была герцогиня Анна курляндская. Кроме того, саксонский посланник в Петербурге Лефорт писал Морицу, что можно взять Курляндию в приданое и за более привлекательною невестою – именно за второю дочерью императрицы Екатерины, Елисаветою Петровною. Мориц объявил Долгорукому, что желает знать, согласна ли будет императрица на то, чтобы он занял курляндский престол, а без соизволения ее величества дела не начнет. Литовский подканцлер князь Чарторыйский, говоря Долгорукому, что напрасно Мориц затевает такое неосновательное дело, прибавил, что, по слухам, дело начато по согласию с русскою государынею. Долгорукий отвечал, что ее величество не имеет никакого понятия о затеях Морица. Весною 1726 года при польском дворе решили отправить Морица в Курляндию и Петербург под предлогом претензий, которые его мать, графиня Кенигсмарк, имела на некоторые земли в прибалтийских областях. 24 апреля король Август разговаривал в своем саду с Долгоруким в присутствии Морица. Разговор зашел о слухе, что императрица Екатерина отправляется в Ригу; король сказал Морицу: «Если этот слух справедлив, то тебе только половину дороги ехать». После этого разговора Мориц начал говорить Долгорукому, что король велел ему самому ехать ко двору императрицы и просить ее соизволения начинать курляндское дело; Мориц при этом спросил у Долгорукого, что он ему присоветует. Тот отвечал, что лучше ему дожидаться в Варшаве известия о согласии императрицы, и Мориц объявил, что будет дожидаться. 7 мая Долгорукий писал в Петербург: «2 числа приезжал ко мне Мориц и сказал, что король непременно велит ему ехать в Петербург как можно скорее и потому он, Мориц, хочет выехать того же числа, но я его разными рассуждениями удержал и надеюсь еще удержать до 14 числа, но больше не надеюсь, потому что король очень спешит его поездкою; удерживаю я его здесь для того: если это дело вашему императорскому величеству неугодно, то чтоб поездкою Морица не подать полякам напрасного подозрения на ваше императорское величество. Я вижу, что король, не желая озлобить Речи Посполитой, ничего явно в пользу Морица делать не хочет и, что по сие время делается, король от всего отрекается и хочет помогать только под рукою разными способами. Литовский гетман Потей и некоторые другие из вельмож для короля помогают Морицу в этом деле, а другие помогать обещают. А везти Морица в Курляндию думают таким образом: король тайно от министров польских подписал позволение курляндцам созвать сейм для избрания герцога, но на этом позволении нет печати, и хотя Мориц давал подканцлеру коронному Липскому тысячу червонных за приложение печати, однако тот не согласился; поэтому король велел Морицу ехать в Петербург через Вильну, где живут гетман Потей и канцлер литовский Вишневецкий, который должен приложить литовскую печать к королевскому позволению».
Между тем еще в марте Бестужев дал знать из Митавы, что туда приехал литовского войска генерал-кригс-комиссар курляндский шляхтич Карп с верющим письмом от литовского гетмана Потея к курляндским обер-ратам. Карп объявил, что король позволяет курляндцам просить себе герцога, какого захотят, только бы он был угоден королю, который обещает содержать Курляндию при древних правах и вольностях, при сейме помогать и до разделения на воеводства не допускать. Карп явился и к Бестужеву с объявлением, что он прислан в Митаву разузнать, приятен ли будет курляндцам принц Мориц саксонский, также при дворе царевны Анны проведать, согласна ли она будет вступить в брак с Морицем, и если императрица будет согласна на этот брак, то можно в Митаве сочинить и свадебный договор. Обер-раты с своей стороны объявили Бестужеву, что они желают иметь герцогом Морица, с тем чтоб он женился на герцогине Анне. Несмотря на эту подготовку в Митаве, король. Август, особенно по настоянию канцлера коронного Шембека, переменил, разумеется наружно, свое намерение и запретил Морицу ехать в Курляндию. Но Мориц не послушался и тайком ускользнул из Варшавы. В Митаве он представился герцогине Анне и успел ей сильно понравиться, успел он понравиться и курляндскому дворянству. «Моя наружность им понравилась», – писал Мориц. Приехал из Варшавы отправленный туда еще в 1724 году курляндский депутат Бракль и объявил именем королевским, что если курляндцы выберут в герцоги Морица, то он, король, склонит Речь Посполитую признать его и с русской стороны не будет никакого препятствия; другого же никакого кандидата ни король, ни Речь Посполитая не допустят и разделят Курляндию на воеводства.









