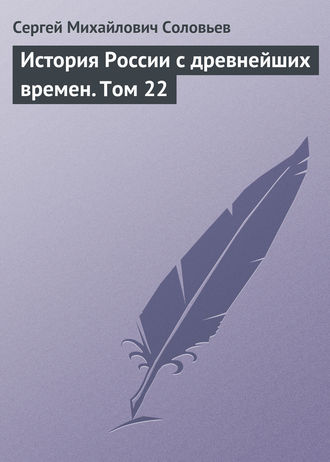 полная версия
полная версияИстория России с древнейших времен. Том 22
В самом Синоде происходили частые столкновения его членов с обер-прокурором кн. Шаховским. Шаховской заметил, что духовные особы берут над ним верх разумом и красноречивым объяснением своих действий, поэтому небезопасно было вступать с ними в споры без приготовления, без изучения духовных дел и всего связанного с интересами духовного начальства. Другая опасность борьбы состояла в том, что Синод при благочестивой императрице получил большее значение, чем имел прежде; духовник Елисаветы протоиерей Дубянский и фаворит Разумовский были всегда готовы заступиться за него перед Елисаветой. Главным поводом к столкновению были интересы материальные. По указу Петра Великого синодальные члены должны были получать определенное им жалованье только в том случае, когда доходы их (архиереев с епархий и архимандритов с монастырей) были меньше этого жалованья, и тогда им должно было добавить из него к сумме доходов, для чего они прежде всего должны были объявить эту сумму. Но они, не объявляя доходов, потребовали себе полного жалованья. Шаховской не соглашался и требовал со своей стороны, чтобы члены Синода или объявили свои доходы, или просили себе жалованья у императрицы с отменою закона Петра Великого. Синодальные члены подали императрице жалобу на Шаховского, что он незаконно препятствует выдаче им жалованья. Елисавета потребовала объяснения у обер-прокурора и признала его поведение вполне законным. Шаховской хвалится в своих записках, что сберег таким образом более 100000 рублей.
Синодальные члены отомстили ему за такое сбережение, отказавшись выдавать ему самому жалованье из синодальных доходов на том основании, что не имеют точного на этот счет указа. Шаховской в свою очередь жаловался императрице на письме; прошло два месяца – никакого ответа. Он подал вторично письмо; прошло четыре месяца – никакого ответа. Шаховской обратился тогда к фавориту Разумовскому, и тот обещал свое ходатайство. Через несколько недель случился церковный праздник, и Шаховской отправился ко всеночной в большую придворную церковь, где была и Елисавета. Императрица обыкновенно становилась позади правого клироса, недалеко от певчих; поговоря немного с ними и взявши одну богослужебную книгу, она подозвала к себе обер-прокурора и показала ему, как книга была неисправно напечатана. Шаховской воспользовался удобным случаем, чтоб в очень некрасивом виде представить поведение людей, лишающих его жалованья. Императрица милостиво его выслушала и потом, чрез несколько времени подозвавши его опять, сказала: «Я виновата: все позабываю о твоем жалованье приказать». Но прошло еще более двух месяцев, а указа о жалованье не было, как случился другой праздник, и Елисавета, увидавши его, опять сказала: «Вот я забыла о вашем о жалованье», но на этот раз она подозвала сенатского обер-прокурора и велела ему завтра же ехать в Синод и объявить, чтоб не делали более препятствий к выдаче жалованья обер-прокурору из суммы, из которой он и прежде получал.
Другое столкновение у обер-прокурора с членами Синода произошло по поводу одного архимандрита, замеченного недалеко от. монастыря, крестьянами в безнравственном поступке. Члены Синода старались замять соблазнительное дело. Шаховской настаивал, чтоб с преступником было поступлено по всей строгости законов. Члены Синода нашли средство внушить императрице, что крестьяне оклеветали архимандрита, что обер-прокурор излишне строг и что от разглашения этого дела происходит всенародное посмеяние всему монашеству, что теперь им, архиереям, нельзя по улице ездить: пальцами на них показывают и вслух говорят оскорбительные слова. Внушение подействовало, крестьяне, как клеветники, были наказаны, архимандрит только переведен в другой монастырь, чтоб уничтожить память о деле, Шаховской подвергся немилости. Но он дождался своего времени. Однажды, когда ему случилось быть во дворце, императрица подозвала его к себе и с неудовольствием сказала: «Чего Синод смотрит? Я вчера была на освящении церкви в конногвардейском полку, там на иконостасе вместо ангелов поставлены разные болваны наподобие купидонов, чего наша церковь не дозволяет». Шаховской воспользовался случаем и с печальным видом повел речь о неустройствах, допускаемых Синодом, что он, обер-прокурор, подает беспрестанно предложения об уничтожении этих неустройств, но этим возбуждает против себя только неудовольствие синодальных членов, которые под видом добродетели, истины и справедливости красноречиво закрывают ложь, как недавно случилось в деле архимандрита. Тут Елисавета с особенным любопытством спросила: «А разве дело решено не так, как следовало?» Шаховской постарался изъяснить и удостоверительно доказать злоковарные происки. На глазах у Елисаветы показались слезы, и она со вздохом сказала: «Боже мой! Можно ль мне было подумать, чтоб так меня обманывать отважились! Весьма о том сожалею, да уж пособить нечем». И после она не раз повторяла эти слова при своих приближенных, отзываясь с похвалою о Шаховском.
Тогда члены Синода решились на сильное средство, чтоб отделаться от невыносимого обер-прокурора. Генерал-прокурор князь Трубецкой призывает к себе Шаховского и объявляет ему великое неудовольствие императрицы, ибо синодальные члены, стоя на коленях перед ее величеством, со слезами просили, что им нет более возможности сносить докучные, дерзкие и оскорбительные письменные и словесные предложения и непристойные споры обер-прокурора, просили, чтоб или всех их уволить от присутствия в Синоде, или взять от них Шаховского. Елисавета, как обыкновенно с нею бывало под первым впечатлением, велела представить кандидата на обер-прокурорское место в Синод, и Трубецкой советовал Шаховскому не ездить туда более. Но Шаховской знал хорошо Елисавету и потому спросил у генерал-прокурора, имеет ли он точный указ, что ему не ездить более в Синод, и если имеет, то дал бы ему указ на письме. Трубецкой отвечал, что указа нет, а что он, принимая в соображение обстоятельства, только советует не ездить более в Синод. Но Шаховской не принял совета, на другой же день поехал в Синод и представил к решению затянутые дела, объявив, что если они не будут решены немедленно, то он доложит об этом ее величеству. Легко себе представить изумление членов Синода, один из которых сказал ему: «Знать вы спокойно прошедшую ночь спали, что теперь вдруг за такие хлопотливые дела принялись?» «Очень спокойно», – отвечал Шаховской. И так как дела не были решены, то он и исполнил свое обещание: при первом удобном случае донес императрице, как много важных церковных дел по пристрастиям остается без решения и частые напоминания о них обер-прокурора только умножают ненависть к нему. Елисавета выслушала благосклонно и обещала помочь ему. Тогда Шаховской обратился к генерал-прокурору с просьбою представить его кандидатом на президентское место в одну из коллегий. Трубецкой исполнил просьбу немедленно, но получил в ответ от императрицы: «Он мне в Синоде надобен, и я его оттуда не отпущу, я довольно уже узнала его справедливые поступки».
Елисавета, как мы видели из рассказов князя Шаховского, откровенно признавалась, что забывала о делах. Люди нерасположенные обыкновенно приписывали это рассеянности, страсти заниматься мелочами, но нельзя не признать, что причиною забывчивости были и заботы о делах важных, о делах внешней политики, связанных с отношениями к людям близким. Не видя долго обер-прокурора Синода, легко было забыть о его борьбе с членами Синода, когда занимал важный вопрос воины и мира, когда канцлер по поводу этого вопроса боролся с вице-канцлером, когда вследствие того же вопроса надобно было зорко следить за отношениями великого князя-наследника и жены его. Мы видели торжество Бестужева над противниками в прусском вопросе. Воронцов был за границею. В переписке своей с ним Бестужев называл вице-канцлера своим искренним и нелицемерным другом, а себя вернейшим и усерднейшим его слугою, извещал, что императрица всегда милостиво отзывается об нем и его жене, писал: «Я без похвалы сказать могу, что редко такой день проходит, когда б я с прочими вашего сиятельства приятелями за здравие ваше не пил». Но Воронцов был оскорблен тем, что канцлер не согласился сообщать ему за границу известия о важных секретных делах. Еще более огорчился он, когда узнал об удалении из Петербурга человека, который был его правою рукою и, как говорят руководителем в коллегии Иностранных дел, Адриана Неплюева, назначенного резидентом в Константинополь: Воронцов не скрыл своего неудовольствия в письме к Бестужеву, и тот отвечал ему: «Что ваш сиятельство принятой резолюции в представлении Адриана Ивановича к отправлению в Царьград удивляетесь, то я, сие в своем месте оставляя, к тому прибавить за потребно нахожу, что каков он, по мнению вашего сиятельства, нашей коллегии надобен быть ни казался, то, однако ж, я вам могу засвидетельствовать, что ежели дела не лучше, то по меньшей мере не хуже прежнего исправляются, как ваше сиятельство по благополучном своем сюда возвращении о том сами из дел удостоверены будете, и я не примечаю, что отъезд его отсюда наималейшую какую остановку или отмену в делах причинствует и впредь причинствовать мог бы. Что же ваше сиятельство об усердии и преданности его ко мне упоминать изволите, то я уповаю, что вы сами засвидетельствовать можете, какое я взаимно еще прежде вступления вашего сиятельства в министерство и во время оного рекомендованием его в вашу милость и крайнейшим о его благополучии усердствованием попечение имел, так что я не думаю, чтоб отец за сына горячее вступаться мог, и потому, ежели у него такие ко мне сентименты были, я оные уповательно заслужил, да и поныне еще никакой причины к жалобе не подал».
Из писем Бестужева ясно видно, как он боялся Воронцова, как льстил ему, желая войти с ним в прежние дружеские отношения, в прежнее политическое единомыслие, старался напоминать ему об его киевском мнении, направленном против Пруссии. Говоря о мире между Австриею, Саксониею и Пруссиею, Бестужев пишет: «Ежели бы киевское вашего сиятельства мнение в действо произвелено было, то, всеконечно, всего того не воспоследовало бы. Труды же и убытки, причиненные движением войск наших, мне ни малейше излишними быть не видятся, ибо там по меньшей мере резонабельнейший мир заключен, нежели бы того при столь полезных короля прусского авантажах, когда б и мы в оплошном состоянии были, ожидать надлежало. Такие со стороны ее импер. величества премудрые предосторожности еще вящим усилием войск неотменно продолжаются, ибо вашему сиятельству довольно известно и вы представлениями своими ее импер. величеству неоднократно напоминали, какого мы опасного соседа имеем, который ничего более за свято не поставляет».
Воронцов проехал Италию, Францию. Отовсюду он писал своему двору, как его принимали. Бестужев не упустил случая возбудить в нем неудовольствие против французского правительства, выставив не очень почетный прием, ему сделанный. «Подлинно, – писал он, – вашему сиятельству во всех французских городах толико чести, как коронованной главе, оказано, ибо для вас гарнизоны в руже ставили, и из пушек стреляно, и капитаны с целою ротою для караула придаваны бывали, почему я ожидал, что потому ж и в Париже прием для вашего сиятельства распоряжен будет. Но в какое я удивление пришел, когда я весьма противное тому усмотрел, особливо же, что ее сиятельству дражайшей вашей супруге табурета у королевы не дозволено, которая честь, однако ж, всем знатным гишпанским дамам и посольским женам, которых ее сиятельство как по рангу своему, так наипаче по природе не меньше чинится, и, по моему слабому мнению, лучше было б королевы совсем не видать, нежели только мимоходом приветствованною быть».
Бестужев удивлялся также, что министр Людовика XV маркиз Даржансон не говорил с Воронцовым о делах. Но канцлер не мог заметить ничего против приема, какой сделан был Воронцову в Пруссии на возвратном пути. Воронцов писал о разговоре своем с Фридрихом II в Потсдаме 10 июля: «Его величество по принятии моего поклона мне говорить изволил, что как доныне общая дражайшая дружба с ее император, величеством с начала счастливого вступления ее на престол толь благополучно взаимно содержана была, так ныне с немалым прискорбием оную видит совершенно алтерировану, что с своей стороны к тому. никакого повода никогда не подал, кроме что его неприятели и зломыслящие, завидуя сей тесной дружбе, всячески стараются оную испровергнуть и в ссору привести разными лживыми внушениями и о которых никто доказать не может, чтоб он, король, какие-нибудь неприятельские виды до ее император. величества и до государства Российского имел, но ниже что впредь учинить хощет, еже ее императ. величеству в противность быть может, в чем детестирует всякого, кто б против сего правильно сказать мог. Я на сие его величеству ответствовал, что по отъезд мой, сколько мне известно было, ее императорское величество с своей стороны всегда соизволила желать с ним, королем, в непременной дружбе пребывать: того ради надеюсь, что и поныне в тех же полезных сентиментах находиться изволит. Его величество на сие репликовал, что он по обращениям дел видеть может, что оные до такого экстремитета доводятся, чтоб или ее императ. величество прямо недружески на него наступить имела, или его, столько огорчивши, принудить, чтоб он сам на действо поступил, к чему с своей стороны никогда не намерен сие учинить, разве бы с обеих сторон напрасно себя разорить хотели, но все происшедшие неудовольства сколько возможно терпеливо снести имеет. Я спросил его величество, в чем состоять имеют сии наущении неприятелей его величества? На то его величество сказать изволил, что внушено было, будто он при турках и в Польше разные возмущения против России производил, что в Швеции наступательный трактат заключить хощет, по которому завоеванные от Швеции провинции им назад возвратить обещает, что все сие такая мерзкая ложь, что ее император. величество ни единого человека как в Швеции, так и инде сыскать не изволит, который бы о сем деле доказать мог, в чем он меня своим королевским словом обнадежить может, что все вышеупомянутое ложно затеяно, а что с Швециею оборонительный трактат заключить намерен, о том уже давно при дворе ее импер. величества объявил».
Фридрих II подарил Воронцову богатую шпагу с бриллиантами и велел даром возить по всем своим областям. Мардефельд в своих письмах к Воронцову называл его наидостойнейшим министром и наичестнейшим человеком во всей Европе. Это очень не понравилось в Петербурге. Очень не нравилось также сближение Воронцова с принцессою Ангальт-Цербстскою, хотя Бестужев отправил от имени императрицы приказ Воронцову, чтоб жена его не целовала руки у принцессы. Принцесса дала Воронцову письмо к дочери, но Воронцов по какой-то удивительной рассеянности отправил его по почте, и оно попало в руки Бестужеву. В письме своем принцесса жаловалась, что Екатерина редко пишет к ней и это производит дурное впечатление. Жаловалась, что великий князь удалил от себя Брюммера и Берхгольца, людей вполне ему преданных; жаловалась, что в Голштинии преследуют доверенных слуг брата ее, бывшего администратора, теперь наследного принца шведского; дурное впечатление производит то, что первое время вступления великого князя в управление ознаменовано гонениями; по мнению принцессы, во всем виноваты датчане, которые стараются перессорить родственников принцев голштинских. «Я в графе Воронцове, – писала принцесса, – нахожу человека испытанной преданности, исполненного ревности к общему делу. Я откровенно сообщила ему свои мнения, что всеми мерами надобно стараться о соглашении. Он мне обещал приложить об этом свое старание. Соединитесь с ним, и вы будете более в состоянии разобрать эти трудные отношения, но будьте осторожны и не пренебрегайте никем. Поблагодарите вице-канцлера и его жену Анну Карловну, что они для свидания с нами сделали нарочно крюк. Усердно прошу, сожгите все мои письма, особенно это».
Бестужев, представляя письмо Елисавете, по обычаю снабдил его своими примечаниями: «Когда принцесса Цербстская отсюда поехала, то сближение вице-канцлера с Лестоком, Трубецким и Румянцевым еще не было вполне утверждено, что, по моему мнению, и означает соглашение, примирение духов (reconciliation des esprits). Вице-канцлер мог обещать приложить свое старание, ибо, как показал племянник Лестока Шапизо, Воронцов во время путешествия своего уже производил с Лестоком конфидентную переписку. Соединитесь с ним: если б это только означало низвержение канцлера, то не было бы нужды в такой таинственности, не было бы нужды принимать так много мер. Сожгите, прошу прилежно, все мои письма, особливо же cue. Прилежная просьба о сожжении всех писем показывает, что и прежние письма не меньшей важности были, как и это». Бестужев жаловался императрице, что от великого князя и великой княгини ходят письма мимо его, пишутся они и к подписанию носятся Олсуфьевым, тогда как сделано распоряжение изготовлять их в Иностранной коллегии и член коллегии Веселовский должен носить их к их высочествам для подписания.
Много также вредили Воронцову перехватываемые депеши Дальона. «Императрица, – писал Дальон, – прекрасная, чрезвычайно приятная, величественная, разумная и проницательная, составила бы благополучие народов и приводила бы иностранцев в удивление, если б не была слишком предана забавам. Она скрытна и подозрительна, крайне горда, не знает, что такое благодарность: это испытала на себе Франция. Ни к какой иностранной нации она не показывает пристрастия, свой народ чрезвычайно любит, но еще более боится его. Бестужев ненавидит французов, особенно по внушениям брата. Он продает императрицу за чистые деньги англичанам, австрийцам и саксонцам, не отнимая от себя, впрочем, свободы подбирать и где-нибудь в другом месте; он им обещает употреблять в их пользу русские силы, но им не служит. Воронцов – человек небольшого ума. Неопытность вовлекла его в большую часть проектов Бестужева, однако он имел. силу многие из них не допускать до осуществления. Нация вздыхает больше всего о покое и тишине, иностранцев ненавидит, и имеет право, ибо если они принесли многие знания, зато и употребляли их во зло. Барон Черкасов чрезвычайно насильственный и грубый, но притом умный и искусный человек, особенно в науке пользоваться. слабостями своей государыни; этими качествами он придает чрезвычайно важное значение своему месту, которое само по себе невысоко. Он правая рука канцлера и чудное в глазах нации качество имеет всех вообще иностранцев ненавидеть». Дальон решился даже написать своему двору о возможности, что канцлер возьмет сторону принца Иоанна (бывшего императора) против существующего правительства. На это известие Бестужев делает очень важное замечание, из которого видно, что он чрез Воронцова и Лестока вошел в сношения с Елисаветой до ее восшествия на престол: «Ее величество о несомненной канцлеровой верности еще прежде всерадостного восшествия на прародительский престол чрез графа Михайлу Ларионовича и Лестока удовлетворительные опыты получила и о том всемилостивейше вспомнить изволит».
Несмотря на не очень лестные отзывы о способностях Воронцова, Дальон с нетерпением ждал его возвращения, продолжая ласкать себя и своих надеждою, что вице-канцлер свергнет канцлера. Дальон в своих депешах делал сильные выходки против великого князя, который сначала публично, и не раз, говорил о канцлере Бестужеве как о величайшем плуте и бесчестнейшем человеке, а теперь допустил его к себе как довереннейшего человека. Принц Август, брат и неприятель кронпринца шведского, и Пехлин, бывший голштинским министром в Стокгольме, – вот главные орудия, которые употребляет канцлер, чтоб войти в приближение к наследнику. Дальон ходатайствовал о возобновлении годовой пенсии в 4000 ливров княгине Долгорукой (Ирине) и графине Румянцевой. Долгорукая, урожденная Голицына, находилась в свойстве со всею знатью при дворе; сын ее, возвращающийся из Парижа, верно будет употреблен в Иностранной коллегии; Румянцева в большой милости у императрицы. Явное торжество Бестужева приводило в отчаяние Дальона; он видел все в черном свете и ждал спасения от приезда Воронцова. «Все зло состоит в том, – писал он, – что больше уже не знают, каким путем доводить до государыни свои мнения, всякий держит себя в величайшей скрытности, и если граф Воронцов не приедет для скорейшего поправления дел, то здешний двор скоро будет походить на султанский, при котором видят только верховного визиря и разговаривают только с ним; впрочем, здешний двор довольно уже походит на султанский по другим обстоятельствам, которые вы без труда отгадаете. Не знают ныне здесь ни веры, ни закона, ни благопристойности». На это Бестужев заметил: «Сии и сему подобные Далионом чинимые враки ему неприметным образом путь в Сибирь приуготовляют, но понеже оные со временем усугубятся, да и по приумножающейся Мардефельдовой к нему конфиденции нечто и о прусских происках иногда свелено быть может: того ради, слабейше мнится, ему еще на несколькое время свободу дать, яд его долее испущать».
Удаление Брюммера и Бергхольца от великого князя и из России было новым ударом для французских интересов. Дальон пишет: «Брюммер и Бергхольц отъезжают – первый с пенсиею около 3000 немецких талеров, а другой и меньше того. Князь Репнин, один из приятнейших и умнейших людей в России, сделан обер-гофмейстером двора великого князя, а госпожа Чоглокова, племянница императрицы, объявлена обер-гофмейстериною великой княгини, ибо они в совершенной зависимости от канцлера. Этим переменам предшествовало заарестование одного старого камердинера великого князя, к которому он питал большую доверенность. Арестовали его в час пополуночи с женою и детьми и, верно, отвели в крепость, где, без сомнения, находится и секретарь Брюммера. Весьма строго запрещено всем приближающимся к великому князю говорить ему об этом заарестовании. Постановлено, что лакеи великого князя будут еженедельно переменяться. Брюммер и Бергхольц, люди, преданные французским интересам, удалены от великого князя с его позволения; в этом принце ежедневно происходят перемены к его невыгоде; он совершенно предался канцлеру Бестужеву, дознанному и самому опасному врагу Голштинского дома. Довершая свое ослепление, великий князь делает или своим именем делать допускает все, что может повести к полному несогласию между ним и кронпринцем шведским. Поступают наперекор Петру Великому относительно духовенства, допускают его день ото дня приходить в большую силу, и здешняя страна походит на страну инквизиции. Императрица делает это для прикрытия некоторых обстоятельств своей жизни, но страна придет в прежнее варварское состояние, ибо духовенство не может получить верха без помощи невежества и суеверия».
Об удалении Брюммера и Бергхольца Мардефельд таким образом донес своему двору: «Принц-администратор дал знать Брюммеру и Бергхольцу, что великий князь не признает удобным, чтоб долее они здесь жили, тогда они стали просить отпуска и тотчас его получили». Бестужев заметил на это донесение: «Весьма ложно Мардефельд доносит, будто великий князь Брюммера и Бергхольца выслать хотел, но им определения о пожаловании амтов и пенсий вручены, на что они, однако ж, грубым и непристойным образом абшидов своих требовали, не прося ни словом о пенсиях, следовательно, с достоинством и честью его импер. высочества не сходствовало б им милость свою пожаловать».
Наконец Воронцов возвратился в Петербург в августе описываемого года, и Дальон дал знать во Франции, что доволен визитом, который он сделал вице-канцлеру. Он выслушал сообщенные мною известия о бывших в его отсутствие приключениях с таким видом, из которого можно понять, что перемена сцены за ним не стала бы. Воронцов, очевидно, огорчен на Бестужева и сказал мне, что зло происходит некоторым образом оттого, что отовсюду писали в Петербург о скорой перемене, имеющей последовать по возвращении его в Россию. На этой депеше, захваченной, прочитанной и отданной Воронцову, тот писал: «Хотя ваше импер. величество и изволили повелеть нарочно подавать повод, дабы чрез то можно более что выведать о намерениях Дальоновых, токмо сие не без опасности кажется с ним вступать в дальний разговор, ибо и без того разных неосновательных рассуждений и толкований много происходит. На сей пассаж более от меня ничего не сказано было, как токмо что как о отъезде моем отсюда, так и о приезде много напрасных толкований в иностранных государствах происходило, равномерно как и о пустых ожиданиях какой-либо перемены здесь».
Но Бестужев сделал такую заметку: «Сие с учиненным Далионом Даржансону в прошлом, 1745 году предварительным обнадеживанием, а именно что вице-канцлер для обучения своего разные европейские дворы посещать, а потом сюда для опровержения своего товарища приехать и главное правление дел себе присвоить намерен, весьма сходствует. Ее импер. величество по природной своей прозорливости из того без затруднения рассудить может, какое бедное и сожалительное канцлерово житье есть, будучи уже двадцать шестой год в министерстве и коль легко малый остаток слабой памяти его поврежден быть может, ежели всещедрейшим ее импер. величества защищением от того освобожден не будет, ибо канцлер почти ежедневно принужден или неприятные известия от французских министров о своем низвержении не за что иное, как токмо за то, что он ее импер. величеству всею душою своею предан и, несмотря на все препятствия и прекословия о благе империи, крайнейше старается слышать, или же иногда вместо отправления прямых дел невинно начатую и впредь ожидаемые явки очищать, еже при случае посылки галер в Ревель учинилось, хотя оное собранным в Петергофе советом для потревоживания в Стокгольме французско-прусской партии, а для одобрения добронамеренных патриотов, следовательно, в пользу ее императ. величества всевысочайших интересов на мере постановлено, а потом ее императ. величеством апробовано и подписанием указа подтверждено было. И потому канцлер как из предыдущего, так и из сего последнего заключить основательную причину имеет, что неприятели его вице-канцлера на него преогорчили и с ним ссорили, потому что канцлер в делах ее императ. величества с покойным князем Черкасским и тайным советником Бреверном никогда таких споров не имели, и дабы от таких споров и прекословий и невинного преогорчения избавленным быть, то канцлер всеглубочайше просит его от такого печального в пятьдесят четвертом году своей старости жития защитить и освободить».









