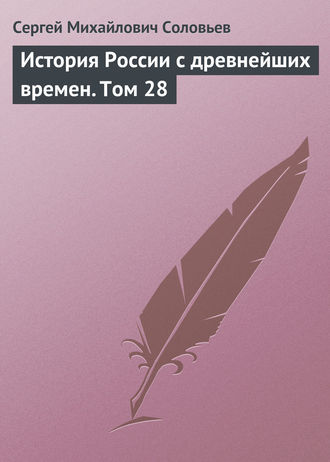 полная версия
полная версияИстория России с древнейших времен. Том 28
Так как императрица не соглашалась на реконфедерацию, то Волконский начал стараться об усилении своей партии, которую он назвал патриотическою. Он объявил членам этой партии главные пункты, на которых должно последовать успокоение Польши. Когда Волконский показал эти пункты Бенуа, тот объявил, что желал бы сделать в них некоторую перемену. Перемена состояла в том, что он вычеркнул место, где говорилось, что Россия и Пруссия гарантируют владения Польской республики. «Мы, – сказал Бенуа, – такой гарантии на себя не возьмем, ибо тогда по малейшему поводу нам надо было бы начинать войну за Польшу». «Сей поступок г. Бенуа показался мне довольно важным, – писал Волконский Панину. – Мне неизвестны секреты кабинетов, но я осмелюсь представить мое сомнение, которое происходит только от наружностей и другого основания не имеет, как вышеписаный поступок и кордон прусский, по реке Нетц протянутый, а теперь вновь и чрез Жмудь до Курляндии продолженный, что нет ли у его прусского величества намерения, пользуясь обстоятельствами, и совсем к рукам прибрать сию захваченную часть Польши?» А Бенуа еще в марте месяце доносил своему государю: «Волконский того мнения, чтоб вывести русские войска из Польши и предоставить поляков самим себе, а если они нарушат Оливский мир, т. е. запретят диссидентам свободное отправление их религии, то Россия и Пруссия должны отобрать у них ближайшие провинции и позволить австрийцам сделать то же». Извещая Фридриха II об австрийском захвате польских земель, Бенуа доносил, что Волконский настоятельно советует последовать примеру венского двора.
Над Турциею торжествовали блестящие победы, поражение Турции было вместе и поражение Франции, а между тем в соседней державе, которой границы были так близки к Петербургу, утверждалось правилом, что самые естественные ее союзницы суть Франция и Турция. В Швеции Франция брала перевес, а по недавнему опыту было известно, к чему ведет такой перевес в соседних с Россиею странах.
От 20 января Остерман дал знать своему двору, что накануне заботливый сейм кончился с довольною конфузиею: против прежнего сейма число недовольных если не утроилось, то по крайней мере удвоилось. Остерман хвалился, что самые вредные замыслы противной партии не удались. Первое покушение этой партии состояло в том, чтоб ее приверженцам, бывшим во французской службе и впредь в нее поступающим, выхлопотать повышение чина против офицеров, остающихся в Швеции, что дало бы французскому двору свободное поле для умножения своих креатур и господство в офицерском производстве, но это не удалось. Потом старались отсрочить будущий сейм на шесть лет и постановить, что сейм не должен быть созван прежде этого срока даже и в случае неприятельского нападения. «Мы, – писал Остерман, – употребили все силы, чтоб и это не прошло, ибо в противном случае враждебная партия пустым предлогом опасности с нашей стороны могла привести в движение целую армию. Не меньше чувствительна ей была неудача предложения отправить в Финляндию войска для крепостных работ, ибо этою неудачею пресеклись ее замыслы произвести на наших границах движения, хвастаться в Константинополе, получить выгоды от Франции, заставить наш двор требовать объяснения и превратить это объяснение в угрозы. Злоба графа Ферзена дошла до того, что он сказал двоим благонамеренным: „Ваше требование, чтоб не посылать войск в Финляндию, есть требование русское“. Те отвечали: „А ваше упорство в поддержке предложения есть французское; государство по милости Франции уже дважды было вплетено в войну и потому не может терпеть, чтоб это случилось и в третий раз“. Благонамеренным удалось удержать одного из своих прежних депутатов в банке, этим выиграно по крайней мере то, что можно знать, как там будут идти дела. Одним словом, в течение этого месяца сила наших соперников была очень ослаблена и они принуждены были во многом уступить, чему доказательством служит назначение пенсии всем отрешенным сенаторам и недопущение дальнейшего гонения благонамеренных. Наша партия совершенно бы разрушилась, если б я не успел после праздников возвратить сюда благонамеренных и содержать их, занявши денег у банкира, в ежедневном ожидании обещанных мне 50000 рублей. Выведите меня из наисильнейшего беспокойства высылкою этой обещанной суммы. Я бы не отчаялся выполнить и другого вашего предписания – ввести благонамеренных сенаторов опять в сенат, если б не было недостатка в деньгах и мог я отважиться на продление сейма; но от английского двора требуемые 18000 фунтов вовсе не были присланы, и от датского не было ничего получено. Также если двор выхлопотал уплату своих долгов, то и это произошло от невозможности продлить сейм, не имея денег, тогда как со стороны короля и королевы розданы были знатные подарки; не говорю уже о содействии кронпринца, который унизился до того, что пригласил к своему партикулярному столу бургомистра Шанца и призвал к себе оратора крестьянского чина, которого уговаривал более двух часов».
Остерман был выведен из наисильнейшего беспокойства: 50000 рублей были ему посланы. Вслед за тем он сообщил своему двору программу, или завещание, секретной комиссии, как должно было поступать до будущего сейма. Прежде всего предписывалось сохранение мира, почему запрещалось вступать с другими державами в оборонительные союзы, равно как приступать к Северной системе, ибо это приступление не только не сходно с шведским интересом, но и странно, несообразительно. Естественно, дружественными Швеции державами обозначены Франция и Турция, потом Испания и Австрия. Теснейшее соединение с Англиею должно быть отклонено, потому что эта держава самая завистливая относительно шведской торговли и промышленности. Русский двор – самый опасный для Швеции сосед, и потому теснейшее соединение с ним неестественно и невозможно, но должно отстранять все, что бы могло повести к нарушению доброго согласия. Императрица написала на этом донесении Остермана: «Что б в своем тестаменте государственные чины ни говорили, однако всякий швед, любящий свою вольность, признать должен, что Россия есть твердейшая подпора их вольности, что графу Остерману надлежит предписать твердить почаще шведам, привязанным к вольности своей».
В феврале прусский посланник при шведском дворе Кокцей объявил Остерману именем своего государя, что брат королевский принц Генрих намерен летом посетить сестру свою королеву шведскую и что Фридрих II даст ему наставление склонить королеву «на лучшие против настоящих мысли». А между тем Синклер с сообщниками твердил, что, пока королю не дана будет полная власть, до тех пор никакого порядка в делах не будет, и этим господам тем легче было действовать, что большая часть градоначальников принадлежала к их партии. Английский посланник объявил Остерману, что по окончании сейма уже два раза получил от своего министерства уведомление о французском замысле произвести внезапный переворот в шведской конституции и что дело будет окончательно улажено, когда наследный шведский принц приедет во Францию, чего герцог Шуазель с нетерпением требует. Злонамеренные уже составили в глубочайшей тайне план новой формы правления и старались преклонить к своим видам и благонамеренных. Те волновались, но Остерман писал Панину зловещие слова: «Вашему сиятельству самим по бытности вашей здесь обыкновенная робость благонамеренных известна». В конце концов для их поддержки Остерман требовал денег.
Принц Генрих приехал в Швецию. Как видно, действительно, целию поездки было склонить шведскую королеву «на лучшие против настоящих мысли», что видно из следующего письма принца Генриха к брату королю: «Кажется, интригам Шуазеля посчастливилось только в Швеции; Франция постоянно поддерживала свою партию в этом королевстве со времени Густава-Адольфа; теперь она совершенно взяла верх. К такому счастию сестра не привыкла; боюсь заодно с вами, любезнейший брат, чтоб она не дала благополучию увлечь себя. Трудно уметь остановиться, когда счастие благоприятствует». Это было писано еще летом 1769 года. Когда принц Генрих был уже в Швеции, то Фридрих писал ему: «Я восхищен, что у сестры такие хорошие мысли. Пусть она остается с своими французами, сколько хочет, лишь бы сохраняла необходимую умеренность с русскими, чтоб вражда между Россиею и Швециею не усиливалась».
В письме к Панину от 14 сентября Остерман описывал разговор свой с принцем Генрихом. Принц начал с того, что по приказанию государя, своего брата, он не оставил своей сестре и королю внушить о необходимости сохранить дружбу с русскою императрицею и уклоняться от всех поступков, которые могли бы повести к холодности. Король и королева отвечали, что они никогда не удалялись от дружбы с императрицею и, не имея никакой причины к неудовольствию, будут стараться всячески сохранить эту дружбу и на будущее время. Что же касается причины их удаления от людей, бывших прежде им преданными, то она заключается в намерении этих людей отрубить головы своим соперникам в отмщение за события 1756 года; король и королева не могли их до этого допустить, а, напротив, желали согласить обе партии, чему были рады и самые вожди благонамеренных. Остерман отвечал, что ему лучше всех известны желания благонамеренных и он может честию уверить принца, что никогда и в ум не приходило мстить противной партии, да и не могло прийти в ум вследствие точного приказания императрицы ему, Остерману, отклонять благонамеренных от всякого гонения. Принц сказал на это, что король и королева уверены в этом приказании императрицы и против него, Остермана, не имеют никакого личного неудовольствия, но некоторые из благонамеренных своими частными внушениями русскому двору старались поссорить императрицу с королем и королевою. Остерман отвечал, что все это выдумано; что же касается покровительства, оказываемого королем и королевою людям, враждебным России, то принц сам легко поймет, как это несходно с русским интересом по различию этого интереса с французским. «Я говорил об этом с королем и королевою, – отвечал принц, – и они мне отвечали уверением, что никогда не слыхали о намерении людей, о которых идет речь, начать войну с Россиею и что они, король и королева, только теперь отдохнули, получивши сенат, согласный с ними». «Такое же спокойствие, – сказал Остерман, – их величества могли бы получить, если бы одинаковую милость оказывали и к прежнему сенату». Принц заключил разговор тем, что королева, его сестра, обещала ему вести себя спокойнее. «Я, – писал Остерман Панину, – за верно ведаю, что он (принц) и действительно в перемене своей сестры поведения всеми образы стараться изволил, и, может быть, и не без некоторого успеха, ежели б тому много не воспрепятствовали потаенные и от него знатно скрываемые с французским двором условления, и шведский кронпринц, который с божбою главнейших французских креатур уверил, что он никогда во всю свою жизнь от них не отстанет. Сие, без сумнения, есть причиною, что те французские креатуры давно уже, а особливо после прибытия сюда прусского принца, публично королеву порочат и, напротиву того, всеми образы прославляют означенного ее сына особливые качества».
В Петербурге очень беспокоились насчет исхода шведских движений, что видно из рескрипта императрицы к Остерману от 19 июля: «Время изо дня в день нас более удостоверяет, что злонамеренная в Швеции партия из дворовых и французских креатур нимало не отстает от своего намерения потрясти и ниспровергнуть вконец законную форму правления, даже всеми силами и способами стремятся ускорить еще событие, определив бытность кронпринца во Франции временем решительного установления своего плана и принятия последних и крайних мер к первому сейму». Императрица объявляла в рескрипте, что для противодействия злонамеренным приказала перевести Остерману 30000 рублей и что Дания и Англия согласились помогать России в этих расходах.
Отношения к Дании в начале года благодаря Бернсторфу были такие, каких лучше нельзя было желать. Так, когда Философов представил, что датский посланник 90 Франции Глейхен вреден для общих интересов России и Дании, то Глейхен был перемещен из Франции в Неаполь. Шуазель сильно рассердился и позволил себе написать Бернсторфу, что тот действует по приказанию русского двора, для слепого угождения которому забывает интересы собственного государя. В мае король согласился давать третью часть издержек по делам шведским. Но в то же время Философов присылал известия, что при датском дворе большая смута, король находится под сильным влиянием жены своей (Каролины-Матильды, сестры английского короля) и фаворитов, а королева явно показывает свое отвращение к графу Бернсторфу. Она овладела королем с помощию двух приближенных к нему и к ней людей: бывшего лейб-медика, а теперь конференции советника Струензе, человека «весьма дерзких мыслей и своевольного поведения», и камергера Варнстета, человека крайне молодого. Министры бурбонских дворов и шведский стараются сблизиться с партиею королевы и ввести к ней в милость людей, преданных французским интересам; королева же, женщина вспыльчивая и преданная сластолюбивой жизни, принимает советы одних тех, которые угождают ее страстям. К несчастию, здоровье Философова расстроилось и заставило его летом уехать на пирмонтские воды, что лишило Бернсторфа совета и помощи. По возвращении из Пирмонта в августе месяце Философов писал Панину, что смутное положение должно скоро рушиться и принять какой-нибудь основательный вид: всеобщее негодование народное и неудовольствие благоразумных, крайнее расстройство короля в поведении и здоровье, которое, очевидно, ослабевает от страшно беспорядочной жизни, не могут позволить долго устоять «тленному и на тленных основаниях устроенному настоящему положению сего двора».
5 сентября Философов уведомил императрицу, что накануне Бернсторф лишился места, а известный враждою к России граф Ранцау сделан министром.
Христиан VII счел нужным собственноручным письмом уведомить императрицу об отставке Бернсторфа. «Бывают случаи, – писал король от 16 сентября, – когда государи облегчают тяжесть дел, сообщая непосредственно друг другу свои чувства. Такой случай настает теперь. Побуждения, относящиеся единственно к внутреннему управлению государством, заставили меня удалить от дел графа Бернсторфа, и так как он главным образом принимал участие в переговорах между нами, то я спешу уверить в. и. величество, что эта перемена не произведет никакого уклонения в наших делах и что я желаю всего более поддержать постоянное доброе согласие, установленное между нами». Императрица отвечала ему (18 октября): «Мне уже за 40 лет, у меня, быть может, есть некоторая опытность, у меня много постоянства и великое уважение к истине. Как ваша союзница, родственница, как друг ваш, я считаю своею обязанностию сказать в. величеству все, что я думаю. Я не жду большого успеха от своего поступка. Я не сомневаюсь, что найдутся люди неблагонамеренные, которые объяснят его по-своему. Они скажут, что я хочу управлять волею в. в-ства, что я вам даю уроки. Они внушат вам недоверие и этим укрепят свои дела и достигнут своей цели, т. е. уничтожат взаимное доверие, которое, по счастию, существовало между нами. Ваше в-ство употребите свою власть, как вам будет угодно; я исполню то, что внушает мне долг. Вот что я вам скажу. Перемена старых слуг, ревностных, искусных и разумных, есть всегда великое зло для государства, потому что, по моему мнению, всякая перемена сама по себе есть уже зло, если общее благо не требует ее непременно. На этот раз наши общие враги (надобно ли их называть?) – французы сумеют воспользоваться опалою министра, который любил великий Северный союз, на руках которого союз этот образовался, и дадут многим и многим делам не только в Дании, но и повсюду такой ход, какой надобен для их отдаленных видов. Ваше в-ство против воли своей дадите начало бесчисленному множеству интриг, движений и гадостей. Мое пророчество начнет сбываться с Швеции. Там французская партия уже торжествует при одном слухе об этом событии. Моя откровенность обязывает меня сказать в. в-ству, что люди, присоветовавшие вам такой поспешный поступок, не обратили никакого внимания на вашу собственную славу. Слава государя требует великого постоянства в его планах, но какое может быть постоянство, когда люди, которые исполняют эти планы, знают дело и руководящие начала, часто переменяются или постоянно боятся перемены, когда люди самые опытные заменяются людьми, имеющими меньшую опытность. Только время дает опытность, никакие качества, никакой ум ее не восполнят. Доверие народов к государям не подчинено акту власти, оно составляет награду за мудрое царствование. То же служит основанием и взаимной доверенности между дворами. Оно много зависит также и от людей, которым государь поручает свои дела. Признаюсь, что относительно нашей системы я питала полное доверие к графу Бернсторфу, которого великие достоинства и способность мне известны: я за ним следила, изучала его двадцать лет. Я на него смотрю как на второй экземпляр графа Панина, которого я давно уже подарила моим доверием вследствие важности его заслуг и неизменной дружбы моей к нему». Король отвечал благодарностию за дружбу, доказательство которой видел в письме Екатерины, и продолжал уверять, что отставка Бернсторфа произошла не вследствие интриг, а по собственному его королевскому побуждению.
Между тем 14 сентября Философов отправил королю письмо, в котором говорил, что назначение Ранцау министром находится в полном противоречии тесному союзу, существующему между Россиею и Даниею, ибо Ранцау известен своею враждебностию к России; в конце письма Философов выражал надежду, что Ранцау будет удален от дел и двора. Король велел отвечать, что он с великим удовольствием принимает заключающиеся в начале письма уверения в доверии и дружбе императрицы и с своей стороны будет пользоваться всяким случаем для доказательства, как искренне старается он поддержать согласие, существующее между Даниею и Россиею. Что же касается дальнейшего содержания письма, то его величество не считает нужным отвечать на него, ибо не может себе представить, чтоб императрица поручила своему посланнику делать такие внушения, и вообще поведение Философова слишком удаляется от формы, которая обыкновенно соблюдается между дружественными и союзными дворами. Тогда императрица приказала Философову выехать из Копенгагена в Петербург под предлогом расстроенного здоровья, а поверенным в делах был назначен секретарь посольства Местмахер как человек, способный «для примечания тамошнего колобродства», по выражению Панина.
Король собственноручным письмом уведомил императрицу, что министром иностранных дел назначил Остена именно потому, что он был посланником в Петербурге и лично известен ее величеству. Местмахер уведомил Панина, что отрешенные благонамеренные министры передали ему, будто Остен прямо объявил королю, что не может принять министерского места, если король не предпишет ему стараться всеми средствами распространять и укреплять дружбу с русским двором, и будто король с радостию на это согласился. В конце года Местмахер писал Панину, что Остен «как проницательный интриган», сохраняя тесную связь с господствующею при дворе «развратною шайкою», под рукою старается всеми средствами приобрести себе доверие разумных и влиятельных в народе людей, выказывает пред ними сожаление о настоящем положении дел при дворе, клянется в своей ревности к сохранению и утверждению тесной дружбы между Даниею и Россиею. Остен подослал доверенного человека к Местмахеру, чтоб заявить ему свою непоколебимую преданность русскому двору. Когда Местмахер приехал к нему в первый раз, то Остен встретил его словами: «Я принял настоящую должность в единственном твердом намерении посвятить свою деятельность большему утверждению связи между Россиею и Даниею, так как сам я вечно и нелицемерно предан ее величеству. Правда, я имел несчастие, что неприятели мои успели навлечь на меня немилость вашей великой и премудрой государыни и ее просвещенного министра, но клянусь честию, что это обстоятельство нисколько не уменьшило моего благоговения к ее императ. величеству и нелицемерного высокопочитания к графу Панину. Я чувствую и всегда чувствовал великую пользу для всего Севера от тесной связи между Россиею и Даниею, и хотя бы я и не претерпел от французского двора таких частых гонений, то одно убеждение в пользе русского союза достаточно для отклонения меня от всякого сношения с гордо-лукавою Франциею». Местмахер отвечал: «Оставляя все на собственное решение императрицы, я, с своей стороны, не могу скрыть, как меня сокрушает здешнее поведение в последнее время, тем более что, как кажется, оно продиктовано французским двором; но, видя такую вашу благонамеренность, ожидаю, что вы не оставите поправить дела». Остен пожал плечами и сказал: «Время теперь к этому еще неудобно, но употреблю все силы и поручаю вам просить всенижайше графа Панина еще теперь не очень строго поступать по этому делу». Конференции советник Шумахер, с которым Местмахер имел тайное свидание, просил о том же, говоря, что настоящее положение двора не может быть продолжительно, ибо Остен постарается скинуть с себя несносное иго молодых и безрассудных фаворитов, чего нельзя сделать без низвержения их самих, и если теперь русский двор потребует строгого и справедливого удовлетворения, то король по советам беспутных фаворитов может слепо отдаться во французские руки.
Об этих датских событиях мы находим отзывы Екатерины в письмах ее к госпоже Бельке. «Граф Ранцау, – писала императрица, – разогнал людей достойных и министров искусных, в числе которых, разумеется, стоит достойный граф Бернсторф; другие употребляют все усилия для отыскания подобных людей, а этот ребенок-король от них отделывается, но тем хуже для него. Если граф Ранцау произведет перемену системы, как вы пишете, то это будет мастерское произведение глупости и мы увидим, кто от этого сильнее будет кусать себе пальцы. К графу Бернсторфу я питаю величайшее уважение, его уважение для меня лестно. Я была истинно огорчена его опалою, его заслуга и достоинство во всяком случае заслуживали лучшей участи. Господин Остен, думаю, так умен, что не позволит себе участвовать в нелепостях графа Ранцау; он может меня знать, и если действительно знает, то должен быть уверен, что интригами против людей, получивших от меня свои места, нельзя приобрести моего доверия, только сумасшедшие, молокососы и дети могут судить о других по себе и жестоко ошибаться. Это в порядке вещей, но если г. Остен не потерял в Неаполе здравого смысла, то я должна предполагать, что он никак не решится на такие странности, а если решится, то даю вам слово, что промахнется и только получит репутацию интригана, потерявшего понапрасну свои труды. При виде постоянной суеты в Дании можно сказать, что эта страна кишит людьми, способными занимать важные места; каждую минуту происходят там перемещения; переменяют людей с такою же легкостию, с какою королева переменяет юбки, если только она их еще носит. Я бы хотела, чтоб Ранцау сделали поскорее великим визирем Дании, если он причиною всего зла, ибо тогда с ним случилось бы то же, что случается обыкновенно с визирями по прошествии некоторого времени. Визири такие же льстецы, как и он; это они выдумали все нелепые титулы, употребляемые султаном; а Ранцау сказал своему государю, что он служит удивлением всей Европы. Чем больше королева даст помощников Струензе, тем более надежды, что он ей опротивеет. Все это и королевские оргии приводят в ужас: вот ребятишки, которых бы надобно было посечь. Только Бог может спасти эту несчастную страну».
В Швеции было решено не приступать к русской Северной системе; события при копенгагенском дворе грозили возможностию подобного решения и здесь, что производило очень неприятное впечатление в Петербурге. Англия по-прежнему хлопотала о союзе, и по-прежнему дело не улаживалось. Английский посланник лорд Каткарт приписал эту неудачу несогласию между двумя самыми влиятельными лицами при русском дворе, графами Паниным и Орловым, и решился помирить их. «Когда граф Панин и граф Орлов сходятся во мнениях, то дело идет очень легко, – писал Каткарт своему министерству, – но когда графу Орлову можно внушить другие идеи, то выдвигается граф Чернышев и его друзья Голицыны, особенно первый, и это обстоятельство кроме всех других неудобств как следствий несогласия проволакивает время, пока императрица не помирит обоих графов». Теперь вместо императрицы Каткарт взялся за это примирение и обратился к Сальдерну с похвалами графу Орлову: и граф Орлов прекрасный человек, а о графе Панине и говорить нечего; неужели же трудно таким достойным людям помириться, а если бы и была трудность, то ее должно отстранить, ибо этого требуют их собственные интересы, интересы императорской фамилии и государства. «Совершенно справедливо, – отвечал Сальдерн, – я и сам часто говорил об этом графу Панину, но дело чрезвычайно трудное, деликатное. Оба они очень застенчивы; я не раз сводил их и оставлял одних, но я уверен, что никто из них первый не решится начать объяснение». Когда Каткарт предложил свое посредничество, то Сальдерн отвечал, что это принесет ему большую честь и пользу, но опасается, что с обеих сторон будет получен один ответ: «Мы находимся друг с другом в наилучших отношениях».











