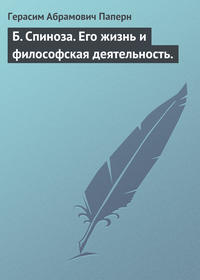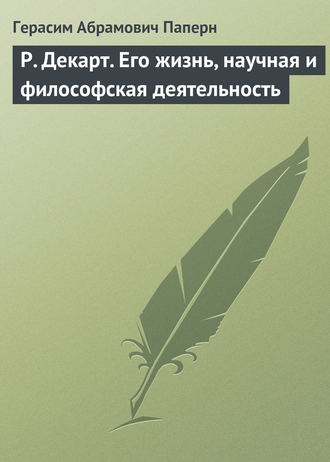 полная версия
полная версияР. Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность
Разговор Декарта был прост и суховат. Лица, подходившие к нему как к оракулу и видевшие в нем олицетворение мудрости, бывали, по словам Балье, разочарованы простотой его ответов. В большом обществе Декарт был молчалив и ненаходчив, как это часто бывает у людей, привыкших к уединенному образу жизни. Но в кругу близких людей он был оживленным и веселым собеседником.
Отношения Декарта к этим близким людям производят, в общем, тяжелое впечатление. На долю Декарта выпало редкое счастье: вокруг него собрался круг восторженных поклонников и преданных друзей, но, по-видимому, он не знал большего и чаще встречающегося счастья – любить других. Перед нами сухая и несколько черствая натура. Обстоятельства его жизни в достаточной степени объясняют возникновение этих черт. Детство, проведенное осиротевшим при самом рождении ребенком в семье, не любившей и не понимавшей «маленького философа»; удаление в возрасте, когда он нуждался еще в уходе со стороны любящих людей, в закрытое учебное заведение, в среду чужих людей; порядки этого заведения, постоянное возбуждение самолюбия у способного и нервного ребенка, которое могло только усиливать несимпатичные стороны его характера и подавлять чувства товарищества и дружбы; затем долгие годы скитальчества, в течение которых его привязанности нигде не могли свить себе прочного гнезда и выдергивались с корнем прежде чем успевали окрепнуть, – все это были условия, вряд ли способные развить сочувственные стороны в ребенке и молодом человеке. В результате получилась сухая, эгоистическая натура, заботившаяся только о своем покое и о своем здоровье. Нужно было много привязанности со стороны старика Бекмана, Мерсенна и Региуса, чтобы выносить капризы, придирчивость и требовательность погруженного в самообожание философа. Тем не менее, рассказывают, что он был вежлив и ласков со своими слугами; следует заметить, что это были интеллигентные люди, помогавшие Декарту в опытах и вычислениях. Один из них, упоминавшийся уже нами Жильо, от имени которого составлялись ответы Ферма, благодаря совместной работе с Декартом так усовершенствовался в математике, что впоследствии преподавал ее голландским офицерам.
Производящие несимпатичное впечатление в личных отношениях Декарта черты его характера – безграничное самолюбие и честолюбие, в связи с давшей этим чертам определенный выход усиленной заботливостью об ограждении личного покоя – принадлежат не только личной биографии мыслителя, но получили более широкое значение: они наложили резкую печать на весь второй период его деятельности. Когда к науке подходят не с чистыми побуждениями, не во имя чистого искания истины, она не всегда «подвергается презрению», как думал Декарт в своем юношеском дневнике, но всегда перестает быть наукой. Она перестает давать то, что только и в состоянии дать наука: возможные при данных условиях правдивые ответы, – и превращается в софистику. В оправдание Декарта можно сказать лишь то, что, будучи неискренним часто, он оставался неискренним недолго: ему так нравилось все, что он писал, что, начиная писать по сторонним побуждениям, он скоро проникался убеждением в истинности своих софизмов и начинал отстаивать их как очевиднейшие истины. Курьезным примером такого самовнушения является отношение Декарта к составленному им по настоянию Арно объяснению догмата пресуществления. Как ни хитро и искусственно было это объяснение, Декарту оно в высшей степени понравилось, и он рассчитывал даже на включение его в церковную догму.
Возможность таких самовнушений стоит, по-видимому, в связи с одной чертой умственного склада Декарта. Как это ни кажется парадоксально, фантастичность его построений зависела, по всей вероятности, от слабого развития воображения. Декарт сам отмечает, что память у него не отличалась особенной живостью и, во всяком случае, была не выше средней; это – ум по преимуществу логического склада, притом верящий в действительность логических построений. Правда, он с почти забавной обстоятельностью описывает форму мельчайших частиц материи, их желобки, грани и углы, но эта форма представляет только логический вывод из его положений. Только при недостатке чутья к конкретной действительности Декарт мог полагать, что внесением одной-двух quasi – конкретных черт он облекает в плоть свои логические схемы. Этой же чертой умственного склада Декарта объясняется резкая прямолинейность некоторых его выводов (например, учения об автоматизме животных) и тот факт, что в его философии мирно уживались рядом противоречивые – более того, непримиримые – течения, согласованные только внешним образом.
Женское общество Декарт любил и был высокого мнения о женщинах: он находил, что они уступчивее мужчин и менее заражены предрассудками. Этот лестный отзыв теряет, к сожалению, значительную долю своей лестности, если мы обратимся к полемике Декарта и постараемся вникнуть в конкретный смысл, который он придавал последним словам. Дело в том, что, по убеждению Декарта, все его критики только потому критиковали его, что или завидовали его гению, или были «заражены предрассудками». Если бы они освободились от всех предрассудков, как освободился от них благодаря своим «сомнениям» он, то убедились бы, как истинна и очевидна вся его философия, начиная с того, что он, Декарт, – «чистый дух» (pur esprit), и кончая хотя бы тем, что частицы третьего элемента имеют на себе спирально завитые желобки. Женщины, несомненно, не причиняли Декарту таких страданий, какие причинялись ему мужчинами: они не обижали его сделанными без его участия открытиями, как то делал Галилей, и не огорчали его своей критикой, как то делали Гоббс, Гассенди, Ферма. Критики в самом деле только огорчали Декарта, не принося ему никакой пользы. Он был «упрямее самого упрямого бретонца», и со времени издания «Рассуждения о методе» трудно заметить какой-нибудь прогресс в его философии. Второй период его деятельности отличается от первого только тем, что Декарт выдвигает на передний план те стороны своей философии, которые раньше оставались в тени, и усиленно заботится о согласовании ее с церковным учением. Если он делает уступки, то только теологам. Мэгеффи полагает даже, что Декарт умер впору, что в дальнейшем он, может быть, разрешил бы еще разве несколько математических задач, лишний раз подробнее изложил бы какой-нибудь отдел своей философии. Внутреннего развития его идей, ввиду убеждения Декарта в своей непогрешимости, ожидать было нельзя.
Биография мыслителя не исчерпывается историей его личной жизни. От Декарта остались его «дела», и они составляли такую значительную часть его «я», что наша биография была бы неполной без хотя бы беглого обзора дальнейших судеб его философии. Начнем с истории внешней.
Как мы говорили уже, возбужденная теологами агитация не имела никакого влияния на распространение картезианских идей в Голландии. Философия Декарта вполне соответствовала умеренно-консервативным взглядам третьего сословия, обеспечившего себе уже в эту пору в Голландии первенствующую политическую роль одинаково далекого как от фанатизма Воэта, так от радикализма Гассенди и Гоббса. При этих условиях агитация фанатиков, так легко похоронившая впоследствии философию Спинозы, не находившую себе поддержки в общественном сочувствии, не могла задержать распространения философии Декарта. Еще при жизни последнего она преподавалась с кафедры в Утрехте и Лейдене, а основанный в последние годы пребывания Декарта в Голландии университет в Бреде был с самого основания своего картезианским. Спустя три года после смерти Декарта его голландский биограф Борель уже говорит, что число последователей картезианской философии так же трудно определить, «как трудно счесть звезды на небе и песчинки на морском берегу».
Иная была судьба декартовой философии во Франции. Хотя столпы средневекового строя – духовенство и дворянство – с усилением королевской власти утратили значительную часть своего политического влияния, но «старый порядок» был в полной силе, и гнет над совестью и мыслью укреплял симпатии к радикальным течениям во французском обществе. Тогда как во второй половине XVIII века Юм не знал ни одного атеиста в пользовавшейся свободой печати и слова Англии и, приехав во Францию, просил показать ему «хоть одного атеиста», Мерсенн за столетие перед тем насчитывал в одном Париже 17 тысяч атеистов. Трудно сказать, какими данными руководствовался почтенный францисканский монах, приводя такие точные цифры, но несомненно, что крайние направления мысли были сильнее в строго опекаемой Франции, чем в свободной Голландии, и тяготевшая к церковному учению философия Декарта долго не могла конкурировать с влиянием более смелой философии Гассенди. Последователей в это время философия Декарта находила себе исключительно в самых консервативных слоях французского общества – в высшем светском обществе и особенно среди духовенства. В духовных орденах ораторианцев, бенедиктинцев и францисканцев, а также среди янсенистов Пор-Рояля насчитывалось много преданных картезианцев; одно время философия Декарта пользовалась, как мы говорили уже, поддержкой также со стороны иезуитов, надеявшихся с ее помощью бороться против все распространявшегося влияния материалистических взглядов. Но все усиливавшаяся клерикальная реакция дошла, наконец, до того, что даже философия Декарта стала признаваться опасной, и иезуиты повели против нее решительную борьбу. В 1663 году сочинения Декарта внесены были в ватиканский index, a в 1671 году парижский архиепископ сообщил университету королевский приказ, запрещавший преподавать иную философию, кроме схоластической. Набожные католики вроде Арно, старавшегося обратить Лейбница в католичество, и Боссюэ не понимали, чего добивается реакция, вступая в борьбу с единственной философией, могущей укрепить в шатающихся умах веру и утверждающей религиозные начала. Но реакция не унималась. Угодливые прислужники, которых она находит всегда и всюду, пытались даже добиться от парламента приказа, осуждающего новые идеи. Когда известие об этом проникло в общество, три писателя – Буало, Бернье и Расин-младший сообща выпустили в свет сатиру, образумившую парламентских советников. Сатира начинается прошением магистров, докторов и профессоров. В качестве защитников и опекунов философии Аристотеля они указывают, что за последние несколько лет «некоторая неизвестная особа, именуемая Разумом, предприняла попытку проникнуть силой в университеты и с помощью неких возмутителей, бездомных бродяг, принявших имена гассендистов, картезианцев, мальбраншистов и пуршотистов, затеяла изгнать Аристотеля, давнего мирного обладателя упомянутых школ… Без ведома Аристотеля сия особа многое изменила и ввела новизны в природу, лишив сердце преимущества быть началом нервов, каковое преимущество было сим философом сердцу по своему изволению даровано, и перенесла преимущество сие на мозг… А затем заставила кровь ходить по всему телу, с полным оной крови произволом шататься, блуждать и обращаться по венам и артериям, без всякого иного чинить таковые продерзости права, кроме опыта, показания коего никогда не признавались в помянутых школах… Далее помянутый Разум… вмешался в лечение и действительно излечил множество перемежающихся лихорадок с помощью чистого вина, порошков хины и других средств, неизвестных помянутому Аристотелю и Гиппократу, и без предварительного кровопускания, клистиров и чистительных, – что не только неправильно, но и есть крайнее злоупотребление, ибо помянутый Разум никогда не был принят и допущен в корпорацию помянутого факультета и, следовательно, не может совещаться с докторами сего последнего и ими быть на совещание призываем, чего действительно никогда и не было. Несмотря на сие и вопреки многократным жалобам и сопротивлению защитников правого учения, упомянутый Разум продолжал пользоваться сказанными средствами и имел дерзость употреблять их даже над врачами помянутого факультета, из коих многие даже были к великому скандалу им вылечены, – что есть пример очень опасный и не могло совершиться иначе, как худыми путями, чародейством и договором с дьяволом. Не довольствуясь сим, упомянутый Разум предпринял попытку поносить и изгнать из курсов философии „формальности“, „материальности“, „сущности“, etc., a сие, буде суд не окажет помощи, долженствует принести великий ущерб и причинить полное разрушение схоластической философии». По рассмотрении картезианских и гассендистских книг, «приняв все в соображение, суд, согласно прошению, удержал и оградил, удерживает и ограждает за упомянутым Аристотелем полное и мирное владение упомянутыми школами…Предписывает сердцу по-прежнему быть началом нервов и приказывает людям, какого бы звания и должности они ни были, этому верить, несмотря ни на какой противоречащий тому опыт. Запрещает крови бродяжничать, обращаться и блуждать в теле… Воспрещает впредь Разуму и его приверженцам вмешиваться в лечение и исцелять лихорадки дурными средствами и путем чародейства, как то: чистым вином, порошками хины и другими средствами, неизвестными древним. А в случае неправильного исцеления помощью сих средств дозволяет медикам упомянутого факультета возвратить больным по обычному методу лихорадку с помощью александрийского листа, сиропов, прохладительных и других годных для сего средств и привести больных в то состояние, в каком они были прежде, дабы потом вылечить их по правилам; буде же они не вылечатся, отправить на тот свет, по крайней мере достаточно прослабленными и очищенными. Возвращает добрую славу и честное имя „сущностям“, „тождествам“, „возможностям“ и прочим схоластическим формулам… Разум изгоняется навсегда из университета, ему воспрещается входить туда, мутить там и беспокоить упомянутого Аристотеля в его обладании и пользовании» (полный перевод сатиры помещен в книге профессора Любимова). Шутка быстро облетела весь Париж, вызвала гомерический хохот, и президент парламента Ла-Муаньон благодарил Буало за то, что насмешкой над воображаемым приговором он предупредил появление действительного приговора, который вызвал бы несравненно более язвительные насмешки со стороны современников и потомства. Но на правительство Людовика XIV подобные средства не действовали. Когда университет в Кане протестовал против распоряжения, запрещавшего преподавать картезианскую философию, и парламент отменил распоряжение, король вторичным приказом подтвердил, что первое распоряжение остается в силе, и высказал порицание парламенту за его приговор. Период с 1670 по 1690 год считается эпохой мученичества картезианской философии во Франции, и к этому же времени относится быстрый рост ее популярности и влияния. Она нашла горячих и красноречивых апостолов, которых возглавили Рого и Режи. На частные лекции Режи стекалась вся Тулуза. Салоны начинали уже приобретать ту влиятельную роль, которая в таком громадном объеме выпала на их долю в следующем веке, и в письмах m-me де Севинье мы находим указания на широкую популярность декартовой философии. Нельзя сказать, чтобы салонные разговоры о «tourbillons», о «je pense, donc je suis» и других излюбленных пунктах философии Декарта отличались особенной глубиной. Она стала модной, и m-me де Севинье находит, что всякая светская женщина должна точно так же уметь говорить о декартовой философии, как должна она уметь играть в écarté. Несколько взыскательного современного читателя немножко коробит от светских острот по поводу «зеленых душ»[6] и «ces beaux tourbillons», тем не менее дамам принадлежит крупная заслуга: они в значительной степени содействовали популярности картезианской философии во Франции. В последние годы века, когда преследование несколько стихло, обнаружилось, что во всех университетах Франции под видом аристотелевской преподается декартова философия.
Как видно из приведенного выше шуточного «приговора», из цитированных нами выше замечаний Региуса и прочих современники Декарта придавали особенное значение его естественнонаучным теориям и за них он получил в свое время от своих поклонников название «отца новой философии». Точно так же смотрел на свою деятельность сам Декарт, предполагавший посвятить всю свою жизнь «научному обоснованию медицины». Современные метафизики видят, напротив того, в его естественнонаучных теориях только преддверие; «храмом» в их глазах является его метафизика. Не подлежит сомнению, что современники Декарта могли лучше разобраться в том, что старо и что ново в его философии, и, по их убеждению, в его метафизике возрождалось старое миросозерцание. Тем не менее, общая оценка исторических заслуг Декарта, делаемая современными метафизиками, правильна: его метафизика оказала несравненно более сильное влияние на развитие этой области, чем его естественнонаучные теории на развитие естествознания. Благодаря трудам Галилея и его учеников естествознание уже в эпоху Декарта, стояло на твердой почве. Всего тридцать лет отделяют фантастические «Начала философии» Декарта от бессмертных «Математических начал естественной философии» Ньютона – этого неувядаемого образца строгого научного метода. При этих условиях фантастические теории Декарта благодаря обаянию его великого имени и блеску его гения сделались не факелом, освещающим путь человечеству, а сыграли роль блуждающего огонька, поведшего человеческую мысль по ложным путям. Долгое время даже в Англии ньютоновская физика не могла вытеснить физики Декарта, – и перенесение Вольтером (только в половине XVIII века) ньютоновской физики во Францию было крупным моментом в истории французской науки. Эпоха господства картезианской физики была эпохой редкого бесплодия. Чтобы выяснить читателю, каким образом такие естественнонаучные теории, как гипотезы Декарта – по духу и по тенденциям вполне соответствующие нашему современному миросозерцанию, – могут оказывать вредное влияние на развитие науки, мы возьмем пример. Предпочитаем брать пример не выдуманный, а действительный эпизод из истории науки и воспользуемся для этого полемикой Спинозы с Бойлем. Химия не была специальностью Спинозы, и в своей полемике он стоит на почве картезианской физики. Оба противника исходят из совершенно различных точек, оба по-своему правы и оба никак не могут понять друг друга. Спиноза находит, что не философски говорить о различных веществах, входящих в состав селитры (переписка возникла по поводу опытов Бойля над разложением селитры), когда материя едина и когда различные свойства получающихся при опыте веществ могут быть объяснены различным движением частиц единой материи. Бойль, в качестве трезвого англичанина, не понимает, каким образом можно говорить об единой материи, когда при опыте оказывается, что селитра состоит из различных тел, из которых одно (теперешний калий) входит в состав «земли», другое (теперешний азот) – в состав нашатыря. Не подлежит сомнению, что, только оставаясь на той точке зрения, на которой стоял Бойль, можно было расширить границы нашего знакомства с химической природой тел. Если бы даже в будущем наука и признала единство материи (в настоящее время это остается не поддающейся проверке гипотезой в такой же мере, как и во времена Декарта), то, во всяком случае, несомненно, что существуют стойкие комплексы частиц этой единой материи, соответствующие атомам наших элементов, и только тщательное изучение свойств этих комплексов, их взаимных отношений и взаимодействия в состоянии нас привести – вероятно, только в отдаленном будущем – к сколько-нибудь научному объяснению химических явлений движением частиц единой материи. В настоящее время мы не можем даже подходить к этому вопросу; исходя из представления единой материи, мы и теперь, как во времена Декарта, принуждены были бы только фантазировать и гадать. И действительно гипотезы одна другой фантастичнее преподносились картезианцами в таком изобилии, что знаменитые слова Ньютона: «Hypotheses non fingo!» («Я не выдумываю гипотез!») были не только характеристикой творчества самого Ньютона, но и протестом против порожденного Декартом злоупотребления гипотезами в области естествознания. Единственной крупной заслугой естественнонаучных теорий Декарта была популяризация в тех умеренных сферах, к которым он обращался, научного, механического миросозерцания. Но и в этом отношении, судя по той вражде, которую питают к механическому миросозерцанию в настоящее время люди, считающие себя непосредственными продолжателями дела Декарта, им было достигнуто, вероятно, немного.
«Науке», целиком состоящей из гаданий и гипотез, – метафизике – склонность Декарта к фантастическим построениям не могла принести вреда. Напротив того, резкость и определенность, с которой он ставил вопросы, прямолинейность его выводов послужили могучим толчком для метафизической мысли. От Декарта ведет свое происхождение то направление новой европейской философии, которое известно под именем умозрительной (рационалистической) философии. Преобладание умозрения Бэкон считал характерной чертой схоластики и советовал не давать умозрению новых крыльев, а напротив того к существующим привесить свинцовые гири, чтобы умерить его полет. Надежды отца английской эмпирической философии не сбылись: умозрительной философии предстоял еще ряд смелых полетов, на ее долю выпал еще период редкого блеска. Это было неизбежно. Положительный метод охватил к тому времени еще только ничтожную долю областей человеческого ведения, и естественная потребность в общем синтезе – в миросозерцании – могла быть удовлетворена только тем же путем, каким удовлетворяла ее схоластика: при помощи умозрения. Но тогда как схоластика в конце средних веков стала во враждебные отношения к науке, метафизика – в этом единственное, но существенное их отличие – оперлась на достигнутые в XVII веке точными науками результаты, и в этом слиянии умозрение нашло новые силы. Общественные условия, принуждавшие лучших людей эпохи замыкаться в тесных рамках теоретической работы, сообщили последней почти болезненную интенсивность. Необходимость решать жгучие вопросы отвлеченно, без проверки опытом, приучала к абсолютным выводам и безусловным решениям. В той области, которую положительная наука принуждена была предоставить метафизике, опорных, направляющих пунктов было так мало, что временные колебания в настроении среды и индивидуальность мыслителя накладывали резкий отпечаток на получавшиеся ответы. Если в одних случаях с редкой ясностью ума предвосхищались приобретения позднейшей науки, то в других с неменьшей резкостью обнаруживался возврат к средневековому миросозерцанию. Великие метафизики непосредственно примыкающей к Декарту плеяды, подобно ему, не были, впрочем, только метафизиками. Это были гениальные наблюдатели, обладавшие разносторонним научным образованием, и почти все они записали свое имя крупными буквами в историю не только метафизики, но и положительных знаний. Около середины XIX столетия окончательно стали на положительную почву психология и биология, положительный метод стал проникать в общественные науки и этику, – и метафизика умерла естественной смертью. За семьдесят лет, прошедших со смерти Гегеля, она не сумела выставить ни одного крупного имени, тогда как история науки и научной философии насчитывает за ту же пору ряд блестящих имен. Современные эпигоны метафизики повторяют слова и мысли, оставленные гигантами старого времени, страдают неудержимым влечением «возвращаться назад» и по мере своих сил удовлетворяют потребности в умственной пище тех групп современного общества, которые не преодолели еще метафизическую стадию развития.
Тот период истории мысли, в центре которого стоит Декарт, можно, таким образом, считать закончившимся. Это во всех отношениях переходный период, как переходны, впрочем, все эпохи человеческой истории. Но он характеризуется рядом параллельно – в различных областях человеческой жизни – возникающих, нарастающих и достигающих своего апогея черт, позволяющих выделить его в качестве типичного исторического периода. В начале и конце его мы встречаем моменты сравнительно устойчивого равновесия. Первый момент нарушается в эпоху, непосредственно следующую за крестовыми походами, когда в однородную военно-земледельческую среду вклинивается новый элемент, торговое городское сословие. В политической сфере начинается собирание государств. В области теоретической мысли происходит перенос на европейскую почву арабской науки и возникает схоластика, – в то время еще живой организм, не изолирующий себя, как это было впоследствии, окаменевшими формулами от зарождавшейся науки и пробивающий первые бреши в первобытном средневековом миросозерцании. В середине этого периода мы находим непрерывный рост торговли, становящейся к этому времени мировой, – упадок влияния духовенства и феодального дворянства и возникновение при поддержке третьего сословия абсолютных монархий. В области мысли всецело становятся на положительную почву астрономия, механика, отчасти физика, – и схоластика, выродившаяся в праздную болтовню о никого не интересовавших вопросах, сменяется более соответствующей научному уровню эпохи и ее запросам метафизикой; это – эпоха Коперника, Галилея, Ньютона – с одной стороны, Декарта и плеяды великих метафизиков – с другой. К середине XIX века в экономической сфере достигает полного расцвета капитализм, в политической – получает господство третье сословие. В области мысли – положительный метод распространяется на все области знания и умирает метафизика, сыгравшая, подобно некоторым другим элементам этого сложного исторического процесса, роль временного связующего звена. Далеко не случайное совпадение тот факт, что Англия, осуществившая у себя конечные результаты этой долгой эволюции еще в середине XVII века, почти не испытала влияния метафизики. Конечный момент устойчивого равновесия характеризуется радостью по поводу одержанных побед, довольством достигнутыми результатами.