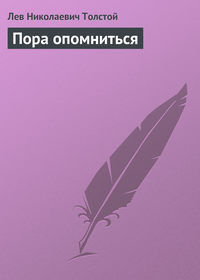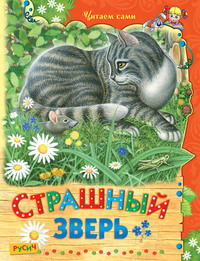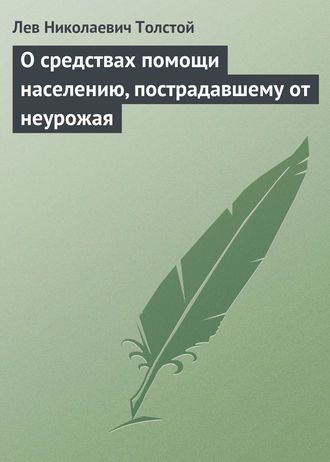 полная версия
полная версияО средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая
Положим, что в нашей местности – говорят, что в других местах: Казанской, Воронежской, Нижегородской губерниях положение еще хуже – очень тяжелое, напряженное и опасное, помощь нужна и с каждым днем становится нужнее.
* № 4 (рук. № 4).
Тот способ, который употребляется теперь, – раздачи мукой, мне думается, мог бы хоть отчасти достигнуть первой цели – поддержания крестьянского хозяйства, если бы только цель эта была ясно сознана и способ распределения был бы совершенно изменен. Достижение этой цели страшно трудно, страшно трудно поправить и поддержать, не дать рухнуть расшатанному годами внешними и внутренними причинами крестьянскому хозяйству. Но, несмотря на трудность этого дела, нельзя не стараться сделать хоть что-нибудь для достижения этой цели. И потому всё, что сделает земство для этой цели, если оно достигнет хоть 1/100 того, что было бы желательно, будет важное и доброе дело. Но другая цель – предотвращения возможности болезней и смертей от недостатка и дурного качества пищи, не достигается совсем этим способом и потому для достижения этой цели должен быть употреблен иной, более целесообразный способ, чем выдача мукою. Наиболее целесообразный способ этот был бы такой, при котором в каждой деревне каждый человек мог бы наверное в случае нужды найти здоровую и достаточную пищу. Достигнуть этого можно бы было устройством по деревням даровых столовых.
* № 5 (рук. № 5).
Помощь, оказываемая земством в виде выдачи муки, как теперь решено у нас, не более как но 20 фун. на месяц, во-первых, не может быть правильно распределена, и, во-вторых, сама по себе ничтожна. Помощь эта не достигает ни цели поддержания крестьянского хозяйства, ни главной цели избавления людей от болезней и смертей, происходящих от недостатка и недоброкачественности пищи. Правительство как будто смешивает эти две цели, и смешение это вредит цели. Нельзя не желать достижения первой цели и не стремиться к тому, чтобы насколько возможно поддержать основу нашего богатства – крестьянское хозяйство. Но я говорю, что это невозможно сделать, не сделав прежде второго,2 и, во-вторых, это невозможно сделать теми мерами, которые употребляет земство. Невозможно достигнуть этой цели теми мерами, которые употребляет земство по следующим соображениям. Прежде всего нужно, чтобы живые люди не заболевали и не мерли от голода.
Податная единица, и богатства страны, и могущество России всё очень важные вещи, но важнее всего то, чтобы не мерли от нужды одни люди, когда у других есть избыток и они могут спасти их.
Комментарии А. И. Опульского
«О СРЕДСТВАХ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ НЕУРОЖАЯ»
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ
Занявшись организацией помощи голодающим, Толстой решил написать статью о средствах борьбы с голодом. «Я надеюсь написать статью относительно подробностей нашей работы, – сообщает он 4 ноября 1891 г. лондонскому издателю Фишеру Унуину, – статью, которая, будучи переведена на английский язык, даст вашему обществу понятие о положении дел и о средствах, употребляемых для борьбы с бедствием настоящего года».3 А 7 ноября, на следующий день после выхода в свет статьи «Страшный вопрос», Толстой пишет жене: «Нынче хочу написать статью описание столовых. Это очень важно. Как они устраиваются и как идут, с тем чтобы каждый знал, как пользоваться этим чудесным, простым, практическим, народным и лучше других достигающим цели [средством]».4 В тот же день, сообщая М. А. Шмидт и О. А. Баршевой, что статьи «О голоде» и «Страшный вопрос» «кажется обе не пропустили», Толстой добавлял: «…Теперь пишу еще».5 В последующие дни он продолжал работать над статьей6 и 17 ноября писал жене: «…У меня есть написанная, не поправленная, большая статья о столовых… Надо подождать, выдет ли гротовская [«О голоде»], чтобы не было повторений и недосказанного».7
В ожидании Толстой начал было писать отчет о полученных пожертвованиях, «коротенькую статью», как называется она в переписке. 17 ноября Т. Л. Толстая писала матери: «Посылаю… отчет в полученных до 14 ноября деньгах – папа говорит, что надо бы напечатать его. Вы пришлите то, что вы получили, и все это вместе пошлите в «Русские ведомости» с просьбой, чтобы те газеты, которые перепечатали ваше письмо, перепечатали бы и отчет, или не отчет, а просто список полученных пожертвований».8 Однако в тот же день Толстой сообщал жене: «Хотел я… послать несколько слов о нашей деятельности и список полученных пожертвований и целое утро писал, но не кончил и решил подождать».9 Письмо Т. Л. Толстой еще не было отослано и в соответствии с этим решением она, хотя и послала статью, но приписала: «Папа раздумал печатать список пожертвований, хочет потом напечатать его вместе с статьей и с отчетом».
Толстой работал над этой статьей один день: материал ее частично использован в статье «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая».
С 18 ноября Толстой возвратился к работе над статьей «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». В письме к жене от 19 ноября он сообщал: «Вчера я с вечера усердно писал статью, описывающую нашу деятельность, сегодня утром проснулся в 7-мь и писал, не выходя из комнаты. Пустая статья, но нужна тем, что сообщает другим приемы заведения и ведения столовых. Она еще не переписана, и едва ли к завтраму кончу».10 В последующие дни Толстой продолжал работать над статьей, а 23 ноября писал жене: «Статья моя о столовых, кажется, готова, но еще не переписана. Надеюсь завтра выслать ее тебе. Ты просмотришь и пошлешь к Гайдебурову [в «Неделю»]. Он всегда так желателен, а я его обхожу для Русских Ведомостей, совсем мне чуждых. Кроме того, он скорее других напечатает. Впрочем, делай, как знаешь. Я вижу, что ты живешь этим делом не меньше нашего».11
О намерении печатать статью в «Неделе» писал Толстой и В. Г. Черткову 25 ноября: «Теперь я написал… очень неважную, описывающую устройство столовых [статью], и попробую послать ее Гайдебурову. Жалко будет, если запретят, потому что она описывает способ устройства самой лучшей формы помощи и хотелось бы сообщить другим этот прием, так он прост, естественен и полезен».12
Окончил Толстой статью 26 ноября (авторская дата на рукописи). Отослана она была 28-го.
«Посылаю тебе статью о столовых, – писал он 28 ноября жене. – Мне хотелось не обидеть Гайдебурова, который прислал тоже пожертвования из своей газеты и скромно писал Тане: за что ваш батюшка меня забыл? Но я готов согласиться и с тобой и отдать в Русские Ведомости. – Ты прочти ее, исправь, перепиши (можно и не переписывать), впиши пожертвования твои и Танины и приложи. Если что-нибудь неладно или задержка выйдет в чем-нибудь, то мы подъедем, и я поправлю».13
Статья вышла в свет около 10 декабря 1891 г. в сборнике «Помощь голодающим», изданном «Русскими ведомостями», а через несколько дней была выпущена редакцией «Русских ведомостей» отдельной брошюрой.
Одновременно Толстой решил опубликовать статью за границей. 25 декабря, сообщая Э. Диллону, что «статья в сборнике Русских ведомостей, говорят, вышла»,14 он предлагал ее перевести на английский язык. Известно, что статью переводила на английский язык И. Гэпгуд, перевод которой Толстой очень одобрил.15
В настоящем издании статья печатается по тексту, опубликованному в сборнике «Помощь голодающим», с выверкой по рукописям.
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ
1. Автограф. 2 лл. в 4°. Начало: «Получено нами в Москве и в Данк [овском] уезде…»; конец: «…Надеюсь в скором времени удовлетворить этим требованиям». Печатается вариант № 1.
2. Копия предыдущей рукописи рукой Е. И. Попова, с поправками и вставками Л. Н. Толстого. (Конец рукописи – автограф Толстого, с небольшими изменениями вошел в печатный текст, где он заключает всю статью.) 6 лл. в 4°. Начало: «Получено нами в Москве в Данковском уезде»; конец: «…Легко и радостно перенесли бы этот голод». При дальнейшей работе над статьей все написанное было отброшено и использованы только два отрывка.
3. Автограф. 11 лл. в 4°. Начало: «В борьбе с бедствием…»; конец»: «…таких складов и столовых». На первом листе заглавие рукой Толстого: «О <столовых> способе помощи» и дата рукой переписчика: «1 ноября 91». На обложке надпись переписчика: «Черновая о столовых. 18 н. 1891 г.».
4. Копия предыдущей рукописи рукой Т. Л. и М. Л. Толстых, А. М. Новикова и неизвестного переписчика, с многочисленными поправками и вставками Толстого. 14 лл. в 4°. Начало: «В борьбе с бедствием нынешнего года…»; конец: «…легко и естественно делается это дело, <как нечто>». Рукопись неполная, часть листов переложена в рукопись № 5, некоторые утеряны. Печатается вариант № 4.
5. Копия предыдущей рукописи рукой М. Л. и Т. Л. Толстых, А. М. Новикова и неизвестного переписчика, с многочисленными поправками и вставками Толстого. 39 лл. в 4°. Начало: «…двору то что <с> проедено…»; конец: «…перенесли бы этот голод». Печатаются варианты №№ 2, 3, 5.
6. Наборная рукопись. Копия предыдущей рукописи рукой Е. И. Попова, М. Л. и Т. Л. Толстых, с немногочисленными поправками Толстого.
21 лл. в 4°. Начало: «Я посетил в начале октября…»; конец: «…перенесли бы мы этот голод! Бегичевка. 26 ноября 1891. Лев Толстой». Дата и подпись – рукой Толстого. Заглавие рукой переписчика: «О столовых».
Текст наборной рукописи отличается от опубликованного в сборнике «Помощь голодающим» некоторыми исправлениями и сокращениями (довольно значительными). Повидимому, поправки были сделаны в корректурах, которые утеряны.
Кроме указанных рукописей, к статье относится черновой материал (3 лл. в 4°).
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.
В настоящем томе печатаются художественные и публицистические произведения Л. Н. Толстого за 1891—1894 годы. Среди них – рассказы «Хозяин и работник», статьи о голоде, «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова», неоконченные художественные произведения: «Кто прав?», «Мать», «Петр Хлебник» и др. Идейная проблематика большинства вошедших в этот том работ Л. Толстого непосредственно связана с вопросами, возникшими в жизни России в связи с охватившим страну в 1891—1893 годы голодом.
Голод был одним из проявлений крайнего обострения социальных противоречий, особенно резко обозначившихся в России в 90-е годы. В. И. Ленин писал в 1902 году в статье «Признаки банкротства»: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности… С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой… Государственный строй, искони державшийся на пассивной поддержке миллионов крестьянства, привел последнее к такому состоянию, при котором оно из года в год оказывается не в состоянии прокормиться»16.
1891—1894 годы явились значительным этапом в жизни и творчестве Л. Толстого. Именно в эти годы он особенно ясно осознал социальные причины тяжелого положения трудового народа. В эти годы он пришел к несомненному выводу, что долго строй насилия и угнетения продержаться не может, что «дело подходит к развязке». «Какая будет развязка, – писал он 31 мая 1892 года Г. А. Русанову, – не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, – я уверен»17.
Толстой не увидел пути, который должен был привести к этой «развязке». Не революционная борьба масс за свои права, а добровольный отказ господствующих классов от привилегированного положения представлялся ему средством спасения от всех социальных зол. В этом сказалась слабость Толстого, выразителя взглядов политически отсталого патриархального крестьянства. Но величайшей заслугой писателя остается то, что «он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования»18. Это стихийное чувство протеста многомиллионных масс крестьянства против помещичье-капиталистического гнета, малоземелья, податной зависимости, против темноты и забитости, экономического и политического бесправия с огромной силой и искренностью выразил Толстой в произведениях, созданных им в период 1891—1894 годов.
I
В творчестве Толстого 1891—1894 годов центральное место принадлежит публицистике. К этому времени относятся широко известные статьи о голоде, которые явились горячим откликом писателя на всенародное бедствие.
Чтобы вполне понять и оценить все значение общественной и писательской деятельности Толстого этого времени, необходимо иметь ясное представление о той обстановке, в какой ему приходилось писать и действовать.
Уже летом 1891 года в газетах стали появляться тревожные известия из различных губерний России о надвигающемся голоде. Однако ни правительство, ни земства, ни официальная печать не проявляли беспокойства. В одной из статей августовской книжки консервативного журнала «Русский вестник» сообщалось: «Теперь недород хлебов поразил более десяти губерний, и никому не приходит в голову мысль о непосильности для государства борьбы с голодом… Печать исполняет свою обязанность, спокойно обсуждая меры необходимой помощи». Либерально-народническая «Русская мысль» так же «спокойно обсуждала меры необходимой помощи» и все свои упования и надежды возлагая на «чуткость» правительства. «Русские ведомости», в свойственном им тоне «умеренности и аккуратности», тоже старались не «пугать» общественное мнение надвигающимся голодом и горячо протестовали против запрещения вывоза хлеба за границу. Даже в ноябре 1891 года, когда многие губернии охватил жесточайший голод, «Русская мысль» оптимистически утверждала: «Итак, нет причины отчаиваться и опускать руки; пусть только пойдут широким руслом частные пожертвования – и наиболее острый кризис без особого труда будет осилен».
Земства, взявшиеся за организацию помощи голодающим, возглавлялись помещиками и интеллигентами, настроенными либерально, а часто и консервативно. Они не только не требовали от правительства серьезной помощи, но в своих статистических сведениях всеми способами «сокращали едоков» – число крестьян, нуждающихся в продовольственной или денежной ссуде. А губернская администрация находила обычно преувеличенными или излишними и эти урезанные требования и часто уменьшала размеры помощи, а то и вовсе отказывала в ней.
Отношение Толстого к средствам борьбы с голодом, в котором он видел огромное народное бедствие, было крайне сложным и противоречивым. С глубоким возмущением отнесся он к лицемерному обсуждению мер помощи народу, ограбленному и доведенному до крайней нужды теми самыми людьми, которые теперь собирались «опекать» своих «меньших братьев». В Дневнике он записывает: «Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно. Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие – высказаться, или страх; но добра нет»19. Толстой отвергает, как нелепую, мысль о возможности прокормить народ за счет подачек богачей.
Вместе с тем, всецело в духе своего утопического и реакционного религиозно-нравственного учения, он надеется, что достаточно написать или сделать то, что смогло бы «тронуть сердца богатых»20, как совершится чудо: отказавшись от своих привилегий, сытые с раскаянием и любовью придут к своим голодным «братьям».
Глубоко сочувствуя народу, Толстой с тревогой следил за тем, что происходило в охваченных голодом деревнях. Положение народа становилось все более тяжелым и безысходным, а правительственная и земская помощь неспособна была что-либо изменить.
В сентябре 1891 года Толстой объезжает ряд деревень Тульской и Рязанской губерний и близко знакомится с народной нуждой. Голодных крестьян, у которых нет вдоволь даже хлеба с лебедой, огромное число нищих, развалившиеся дома, отсутствие топлива, и все это рядом с довольством помещичьих усадеб – нашел Толстой во всех деревнях. Возвратившись в Ясную Поляну, он начал работать над статьей «О голоде», в которой собирался рассказать подлинную правду обо всем, что видел: о крестьянской нужде, помещичьей роскоши, преступном равнодушии «верхов» к народу и о ничтожности правительственной и земской помощи.
Под впечатлением невыносимых страданий народа Толстой приходит к мысли, что нельзя ждать, пока господа раскаются в своем «грехе». Он убеждается, что в существующих условиях, если не оказать народу помощи, тысячи людей будут умирать от голода и болезней, не возбудив и тени сострадания у господствующих классов. И Толстой решает заняться организацией помощи голодающим. С этой целью он в октябре 1891 года поселяется в имении своего друга И. И. Раевского Бегичевке Рязанской губернии. Вместе со своими помощниками он устраивает в окрестных деревнях многочисленные столовые для крестьян и их детей, собирает и распределяет пожертвования, организует медицинскую помощь. «…Не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать»21, – пишет он в это время H. Н. Ге.
Деятельное участие Толстого в помощи голодающим и его статьи этого периода, полные гнева к эксплуататорам и горячей любви к народу, навсегда останутся свидетельством глубокой и кровной связи великого писателя с народом.
Статьи Толстого о голоде можно разделить на две группы. Одна – это статьи «О голоде»22, «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим», «Голод или не голод?»23. В них писатель ставит коренные, общие вопросы, возникшие в связи с голодом, показывает во всей неприглядности тяжкую долю народа, с беспощадной резкостью критикует современный общественный порядок, выдвигает требования, которые, по его мнению, необходимо удовлетворить, чтобы не было голодовок, постоянной нищеты и вымирания русского крестьянства. Эти статьи представляют наибольший интерес, хотя именно в них со всей остротой проявляются поистине кричащие противоречия взглядов Толстого: обличение существующего строя и вместе с тем незнание подлинных путей его изменения, проповедь нравственного совершенствования и непротивления злу насилием.
Другая группа – это статьи «Страшный вопрос», «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», непосредственно связанные с практической деятельностью Толстого во время голода, отчеты об израсходовании пожертвованных денег. В этих статьях писатель рассказывал о своей работе и работе своих помощников по борьбе с голодом и обращался к прогрессивной части русского общества с призывом воспользоваться его опытом. В них он настойчиво требовал широкой организации бесплатных столовых для крестьян как наиболее действенной формы помощи голодающим.
В обличительном пафосе статей Толстого о голоде ярко отразились настроения многомиллионного русского крестьянства, у которого «века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости»24.
Правда о русской деревне, рассказанная Толстым в статье «О голоде», обличала эксплуататорский строй царской России. Это была та правда, которую тщательно старались скрыть и консервативные, и либеральные защитники существующих порядков. В своей статье Толстой указывает, что хищническим хозяйничаньем помещиков и капиталистов крестьяне доведены до крайней нужды и разорения. Уже в самом начале осени, рассказывает писатель, в одной из деревень Ефремовского уезда «из 70-ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадях побираться. Те, которые остались, едят хлеб с лебедой и с отрубями, который им продают из склада земства по 60 копеек с пуда». Толстой на основании многочисленных фактов утверждал, что в таком положении постоянно, а не только в голодный год находятся миллионы крестьян России. Он разоблачает клевету господствующих классов, будто народ голоден оттого, что ленив, пьянствует, дик и невежествен. Народ голоден оттого, что его душат малоземелье, подати, солдатчина, что «распределение, производимое законами о приобретении собственности, труде и отношениях сословий, неправильно». Улучшить положение народа можно, по мысли Толстого, лишь тем, чтобы перестать грабить и обманывать его. А взять у господ часть их богатств и раздать голодающим – все равно, что заставить паразита кормить то растение, которым он питается. «Мы, высшие классы, живущие все им, не, могущие ступить шагу без него, мы его будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное», – восклицает Толстой. Именно эти слова Толстого имел в виду В. И. Ленин, когда в статье «Признаки банкротства» писал: «В 1892 г. Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том, что «паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается». Это была, действительно, нелепая идея»25.
В статье «О голоде» Толстой беспощадно разоблачает лицемерие эксплуататорских классов, которые делают вид, что озабочены голодом, встревожены положением народа, а в действительности более чем равнодушны к совершающемуся бедствию и стараются всеми средствами еще сильнее закабалить крестьян. Писатель гневно обнажает подлинную сущность происходящего, показывает, что между эксплуататорами и народом нет иных отношений, кроме отношений господина и раба. «Не говоря о фабричных поколениях, гибнущих на нелепой, мучительной и развращающей работе фабрик для удовольствия богатых, – пишет Толстой, – всё земледельческое население, или огромная часть его, не имея земли, чтобы кормиться, вынуждено к страшному напряжению работы, губящей их духовные и физические силы, только для того, чтобы господа могли увеличивать свою роскошь. Всё население спаивается, эксплуатируется торговцами для этой же цели. Народонаселение вырождается, дети преждевременно умирают, всё для того, чтобы богачи – господа и купцы жили своей отдельной господской жизнью, с своими дворцами и музеями, обедами и концертами, лошадьми, экипажами, лекциями и т. п.».
Однако в статье «О голоде», как и в других произведениях, Толстой высказывает иллюзорную надежду, что господа могут добровольно «перестать делать то, что губит народ», возвратить награбленное, изменить свою жизнь и тем самым разорвать кастовую черту, отделяющую их от народа. Он обращается к «высшим классам» с призывом: отнестись к народу «не только как к равным, но к лучшим нашим братьям, таким, перед которыми мы давно виноваты», прийти к ним «с раскаянием, смирением и любовью», поступить подобно мученику Петру, который, раскаявшись в своем жестокосердии, отказался от всего богатства и сам продался в рабство26. Так решение глубоко поднятых и со всей резкостью поставленных в статье «О голоде» социальных вопросов Толстой переводит в плоскость отвлеченных рассуждений о «грехе», «братской любви» и т. п.
Занимаясь помощью голодающим, Толстой еще больше убедился в том, что причина бедственного положения народа – не в неурожае, а в самой системе угнетения меньшинством эксплуататоров огромного большинства трудящегося народа. Подводя итоги всему тому, что он видел во время голода, Толстой в «Заключении к последнему отчету о помощи голодающим» снова указывает, что связь роскоши одних с лишениями и страданиями других очевидна, что народ вымирает от непосильной работы и постоянного недостатка пищи. Толстой утверждает здесь, как и позднее в романе «Воскресение», «что люди, которые служат правительству, делают это не для блага народа, который не просит их об этом, а только потому, что им нужно жалованье; и что люди, занимающиеся науками и искусствами, занимаются ими не для просвещения народа, а для гонорара и пенсии; и люди, удерживающие от народа землю и возвышающие на нее цены, делают это не для поддержания каких-либо священных прав, а для увеличения своего дохода, нужного им для удовлетворения своих прихотей».
Превосходно зная истинное положение русской деревни, Толстой понимал, что голод и в последующие годы не перестанет душить нищую, обездоленную русскую деревню. И если господствующие классы будут молчать «про нужду, холод и голод, вымирание замученных работой взрослых и недоедающих старых и малых сотен тысяч людей», как это было в 1891—1892 годах, то лишь для того, чтобы скрыть истину и не возбуждать общественного мнения.
Вместе с тем, вступая в противоречие со своей трезвой оценкой действительного отношения господ к народу, вопреки тому, что он наблюдал во время голода, Толстой и эту статью заключает призывом к богатым раскаяться, отречься от «ложного» христианства и признать «истинное».
90-е годы были временем бурного развития в России капитализма и крайнего обнищания, ограбления, вымирания народа. По поводу этого десятилетия в экономической жизни России В. И. Ленин писал в 1901 году: «Не одно только разорение, а прямое вымирание русского крестьянства идет в последнее десятилетие с поразительной быстротой, и, вероятно, ни одна война, как бы продолжительна и упорна она ни была, не уносила такой массы жертв»27.