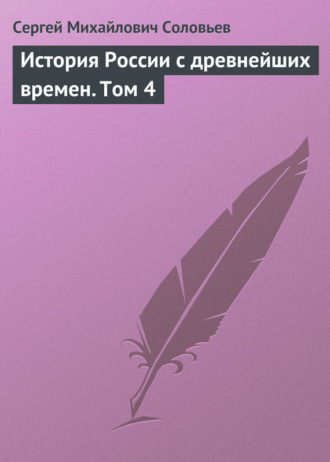 полная версия
полная версияИстория России с древнейших времен. Том 4
Весть об этом так поразила Витовта, что сильно расстроила его здоровье; однако больной старик еще не терял совершенно надежды как бы то ни было успеть в своем намерении. Зная слабохарактерность Ягайла, он послал звать его к себе в Вильну. Ягайлу и самому очень хотелось поехать в Литву, не потому, что он питал сильную привязанность к родной стране, а потому, что в ней всего лучше удовлетворял он своей страсти к охоте. Но польские прелаты и вельможи знали, что если Ягайло раз свидится с Витовтом, то не будет в состоянии отказать ему ни в чем; знали также, что Сигизмундовы послы убеждают Витовта употребить при венчании корону, сделанную в Вильне, что не помешает Сигизмунду признать его королем, и потому боялись отпустить Ягайла одного в Литву, а приставили к нему Збигнева Олесницкого, на твердость которого вполне полагались. Витовт принял двоюродного брата с большим торжеством; но сам со дня на день становился все слабее и слабее, не переставая, однако, требовать от Ягайла, чтобы тот согласился на его коронацию. Ягайло отвечал, что он сам по себе рад дать согласие, да что ж ему делать, когда поляки приставили к нему Збигнева, без согласия которого ничего нельзя сделать; что прежде всего нужно как-нибудь размягчить этот камень. Витовт принялся размягчать и просьбами и дарами, каких никто до сих пор не получал еще в Литве, но Збигнев остался непреклонен. Тогда Витовт прибегнул к угрозам, давая знать, что употребит все средства, рассыплет повсюду то самое золото, раздаст те самые дары, которые были приготовлены для Збигнева, чтобы лишить его краковской епископии. Но угрозы не испугали, а только ожесточили Збигнева, и Витовт должен был оставить всякую надежду преклонить его на свою сторону, а скоро тяжкая болезнь заставила его отложить все другие надежды. Витовт умер 27 октября 1430 года; главною причиною смерти полагают тяжкую скорбь о несбывшихся намерениях.
Не имея сыновей, Витовт сосредоточил все свои желания на удовлетворении личного честолюбия, для чего так усиленно добивался венца королевского, и не мог, по-видимому, в последнее пятилетие жизни заботиться о расширении своих владений, которых некому было оставить. Несмотря на то, еще в 1425 году Витовт посылал к великому магистру Ордена требовать помощи против Пскова, магистр отказал, и Витовт почему-то отложил поход; в 1426 году он опять послал за тем же к магистру; тот опять отвечал, что не может нарушить крестного целования к псковичам; но на этот раз Витовт не стал дожидаться союзников, объявил войну псковичам и по прошествии четырех недель и четырех дней после объявления, в августе месяце, явился с полками литовскими, польскими, русскими и татарскими под Опочкою, жители которой устроили мост на канатах, под мостом набили кольев, а сами спрятались в крепости, чтобы неприятелю показалась она пустою. Татарская конница, не видя никого на стенах, бросилась на мост: тогда граждане подрезали канаты, и мост вместе с татарами упал на колья, почти все неприятели лишились жизни, а которые попались в плен, тех жестоко и позорно изувечили в городе и в таком виде показали осаждающим. Витовт отошел от Опочки и осадил другой город – Воронач, под которым стоял три недели, разбивая пороками стены. Вороначанам стало очень тяжко, и они послали сказать в Псков: «Господа псковичи! помогайте нам, думайте об нас, нам теперь очень тяжко!» Псковичи послали в литовский стан своего посадника бить челом Витовту; но тот не принял псковского челобитья. Другой псковский посадник с 400 человек хотел пробраться в город Котельну и засесть там, но был перенят по дороге 7000 литовцев и татар и успел убежать в Котельну, потерявши 30 человек; в двух других стычках с татарами жители псковских пригородов были счастливее. Между тем в одну ночь случилось чудо страшное, говорит летописец: внезапно нашла туча грозная, полился дождь, загремел гром, молния сверкала беспрестанно, и все думали, что или от дождя потонут, или от молнии сгорят, или от грома камнями будут побиты; гром был такой страшный, что земля тряслась, и Витовт, ухватясь за шатерный столп, кричал в ужасе: «Господи помилуй!» Псковский летописец этой грозе приписывает смирение Витовта, который дал перемирие вороначанам; но летописец московский приводит другое обстоятельство: к Витовту приехал посол из Москвы, князь Лыков, и сказал от имени великого князя Василия: «Зачем это ты так делаешь вопреки договору? Вместо того чтобы быть тебе со мною заодно, ты мою отчину воюешь и пустошишь». Витовт, послушавшись внука своего, заключил с псковичами мир; вместо трех тысяч рублей взял с них только одну тысячу и пленников их отдал на поруки, с условием, чтоб в известный срок они явились к нему в Вильну; псковский летописец не говорит ничего о после московском и жалуется, по обычаю, на новгородцев, которые не помогли Пскову ничем, ни словом, ни делом, хотя их посол был все это время в стане у Витовта, и под Опочкою, и под Вороначем. Когда срок ехать в Вильну с деньгами и пленными стал приближаться, псковичи послали в Москву просить великого князя, чтоб отправил к деду своих бояр бить челом за псковичей. Московский посол поехал в Вильну вместе с псковскими, повезли деньги, 1000 рублей, и пленников; Витовт деньги взял, но пленников оставил у себя, и посол московский не помог ничего своим посольством, говорит псковский летописец: псковичи принуждены были опять послать посадника в Вильну и выкупить пленных деньгами.
В 1428 году пришел черед и новгородцам: Витовт объявил им войну за то, что они называли его изменником и пьяницею; новгородцы послали просить помощи у псковичей, но те отвечали: «Как вы нам не помогли, так и мы вам не поможем, да еще мы и договор заключили с Витовтом, что не помогать вам». Великий князь московский также целовал крест Витовту, что не будет помогать ни Новгороду, ни Пскову, а тверской князь отправил даже свои полки на помощь Витовту. И вот Витовт пришел сначала к Вышгороду, а потом к Порхову с пушками; была у него одна огромная пушка по имени Галка, которая наделала много вреда и Порхову и Литве, потому что, разорвавшись, убила самого мастера, воеводу полоцкого и много ратных людей и лошадей. Несмотря на то, Порхов не мог долее держаться и заплатил за себя Витовту 5000 рублей; потом приехали из Новгорода владыка с боярами и заплатили еще 5000 да тысячу за пленных; сбирали это серебро по всем волостям Новгородским и за Волоком, брали с 10 человек по рублю. «Вот вам за то, что называли меня изменником и бражником», – сказал Витовт новгородцам, принимая у них деньги.
Смерть Витовта обрадовала многих и в Польше, и в Северо-Восточной Руси; ей радовались и в Юго-Западной Руси те, которым дорого было свое и которые видели ясно, что Витовт в своих честолюбивых стремлениях руководился одними личными, корыстными целями. Их надежды давно уже были обращены на брата Ягайлова, Свидригайла Олгердовича, который оказывал явное расположение к православию и явную ненависть к Польше. Польские писатели изображают Свидригайла человеком, преданным вину и праздности, непостоянным, вспыльчивым, безрассудным, склонным на все стороны, куда ветер подует, и находят в нем одно только доброе качество – щедрость. Но должно заметить, что почти всех Гедиминовичей можно упрекать в непостоянстве, видя, с какою легкостию изменяют они одной вере и народности в пользу другой, лишь бы только эта измена вела к скорейшему достижению известной цели. Эта фамильная черта Гедиминовичей равно поражает нас как в Ягайле, Свидригайле и Витовте, так и в последнем из Гедиминовичей, Сигизмунде Августе, который точно так же был равнодушен, точно так же колебался между католицизмом и протестантизмом, как предки его колебались между католицизмом и православием. Быть может, причина такому явлению заключалась в самом положении литовского народа, который, не успев выработать для себя крепких основ народного характера, пришел в столкновение с различными чуждыми и высшими его народностями: к одной которой-нибудь из них он должен был при равняться, не насильственно, однако, а с правом выбора.
По смерти Витовта Ягайло не мог противиться всеобщему желанию: русские и литовские вельможи бросились к Свидригайлу и провозгласили его великим князем. Свидригайло ознаменовал свое вступление на отцовский стол тем, что занял литовские замки от своего имени, с исключением Ягайлова, и тем обнаружил намерение отложиться от Польши. Кипя гневом за прежние обиды и гонения, он в резких словах укорял короля и его польских советников, грозя им местию. Ягайло находился в самом затруднительном положении; эта затруднительность еще более усилилась при известии, что поляки, услыхав о смерти Витовта, внезапно захватили Подолию, вытеснив оттуда литовских наместников. Свидригайло выходил из себя, грозил королю тюрьмою и даже смертию, если поляки не возвратят Подолию Литве. Тогда советники королевские решились умертвить Свидригайла и, запершись в Вильне, держаться там до прибытия коронного войска. Но Ягайло никак не соглашался на такую меру и почел за лучшее возвратить брату Подолию. Свидригайло, обрадованный уступчивостию короля, утих и начал ласкаться к брату; но вельможи польские были в отчаянии, что Подолия отходит от них, стали придумывать средства, как бы помешать королевскому намерению, и наконец нашли: тайным образом дали знать польскому коменданту Каменца, чтоб он не слушался королевского повеления, не сдавал города Литве и заключил бы в оковы Ягайловых и Свидригайловых посланных; комендант исполнил их желание.
В 1431 году Ягайло возвратился в Польшу; на Сендомирском сейме слабый старик стал жаловаться на обиды от Свидригайла; негодование поляков было усилено еще вестями, что Свидригайло не оставляет в покое ни Подолии, ни других соседних областей; но они боялись действовать против литовского князя вооруженною силою, зная сильную приверженность к нему русских, заподозривая и короля своего в тайном доброжелательстве брату, и потому решились попытаться сперва мирным путем склонить Свидригайла к уступке Подолии и к признанию своей зависимости от Польши. Первое посольство их осталось без успеха; при втором, выведенный из терпения дерзкими требованиями Яна Лутека Бржеского, Свидригайло дал ему пощечину. В том же году (1431) Бржеский опять приехал послом от Ягайла, опять говорил Свидригайлу те же речи, опять получил от него пощечину, но теперь уже не был отпущен назад, а заключен в тюрьму. Ягайло выступил с войском на Литву, хотя, как выражается польский историк, горше смерти был ему этот поход против родной земли и родного брата. Борьба между народностями, из которых одна посягала на права другой, ведена была, как и следовало ожидать, с большим ожесточением: с обеих сторон не было пощады пленникам, причем русские особенно изливали свою месть на латинское духовенство. Жители Луцка с удивительным мужеством выдерживали осаду от королевского войска; несмотря на то, по уверению польского историка, город должен был бы скоро сдаться и война кончилась бы с выгодою и честию для короля и королевства, если б тому не помешал сам Ягайло, благоприятствовавший Свидригайлу и его подданным, с которыми поспешил заключить перемирие, причем положен был срок и место для переговоров о вечном мире. Король снял осаду Луцка, и русские торжествовали отступление неприятеля тем, что разрушили все католические церкви в Луцкой земле.
Съезд для заключения вечного мира назначен был в Парчеве; но Свидригайло не явился туда и не прислал своих уполномоченных. Тогда поляки, не надеясь справиться с литовским князем открытою силою, решились выставить ему соперника и возбудить междоусобие в собственных его владениях. Мы видели, что Свидригайло держался русского народонаселения. Это возбуждало неудовольствие собственно литовских вельмож, особенно тех, которые приняли католицизм. Поляки воспользовались их неудовольствием и послали Лаврентия Зоронбу в Литву с явным поручением от Ягайла к брату его – склонять последнего к покорности – и с тайным поручением – уговаривать литовских вельмож к свержению Свидригайла и к принятию к себе в князья Витовтова брата, Сигизмунда Кейстутовича, князя стародубского. Зоронба успел как нельзя лучше выполнить свое поручение: составлен был заговор, с помощию которого Сигизмунд стародубский напал нечаянно на Свидригайла и выгнал его из Литвы; но Русь (т. е. Малороссия), Смоленск и Витебск остались верными Свидригайлу.
Сведав об изгнании Свидригайла из Литвы, король созвал вельмож и прелатов для совещания о делах этой страны. Положено было отправить к Сигизмунду полномочных послов, в числе которых находился Збигнев Олесницкий. Сигизмунд с почестями принял посольство и подчинил себя и свое княжество короне Польской. Такой поступок понятен: Сигизмунд собственными средствами не мог держаться против Свидригайла; ему нужна была помощь Польши, авторитет ее короля. Но понятно также, что подчинение Литвы Польше не могло доставить Сигизмунду расположения многих литовцев, которые не хотели этого подчинения; вот почему Сигизмунд скоро увидел, что окружен людьми, на верность которых не может положиться; и хотя польский летописец видит в этом случае только врожденное непостоянство литовцев, но мы имеем право видеть еще что-нибудь другое, тем более что тот же самый летописец в один голос с летописцем русским упрекает Сигизмунда в страшной жестокости и безнравственности. Открыт был заговор на жизнь Сигизмунда, и главами заговора были двое знаменитейших вельмож: Янут, палатин троцкий, и Румбольд, гетман литовский. Янут и Румбольд вместе с другими соучастниками погибли под топором; но ожесточение против Сигизмунда не уменьшилось: он не смел встретиться с Свидригайлом в открытом поле, боясь измены своих.
В таком положении находились Литва и Юго-Западная Русь, когда в 1434 году умер король Ягайло. Поляки возвели на престол сына его Владислава, не без смут, впрочем, и сопротивления со стороны некоторых вельмож. Но перемена, совершившаяся в Польше, не изменила положения Литвы и Руси: здесь по-прежнему шла борьба между Сигизмундом и Свидригайлом, по-прежнему последний не хотел отказываться от прав своих на Литву и по-прежнему был несчастлив на войне: войска его потерпели сильное поражение под Вилькомиром. Но Сигизмунд недолго наслаждался своим торжеством: двое братьев, русские князья Иван и Александр Чарторыйские составили новый заговор, вследствие которого Сигизмунд лишился жизни.
По убиении Сигизмунда литовские вельможи разделились: одни хотели видеть великим князем Владислава Ягайловича, короля польского; другие, возвеличенные Сигизмундом, держались сына его Михаила; третьи, наконец, хотели Свидригайла. Король Владислав был в это время в большом затруднении: венгры выбрали его на свой престол и просили поспешить приездом к ним, а между тем Литва требовала также его присутствия и в противном случае грозила отделиться от Польши. После долгих совещаний с польскими вельможами решено было, чтоб сам Владислав поспешил в Венгрию для упрочения себе тамошнего престола, а в Литву отправил вместо себя родного брата своего, молодого Казимира, не в качестве, однако, великого князя литовского, а в качестве наместника польского. Литовские и некоторые из русских вельмож вместе с Александром, или Олельком, Владимировичем, князем киевским, внуком Олгердовым, приняли Казимира, но никак не хотели видеть в нем наместника Владиславова и требовали возведения его на великокняжеский престол; поляки, окружавшие Казимира, никак не хотели согласиться на это требование, и тогда литовцы против их воли провозгласили Казимира великим князем. Видя это, король Владислав и его польские советники придумали средство обессилить Литву, отнять у ее князей возможность к сопротивлению польскому владычеству: это средство было – разделение литовских областей между Казимиром Ягеллоновичем, Михаилом Сигизмундовичем и Болеславом мазовецким; назначен был для этого уже и съезд в Парчеве, но сопротивление литовских вельмож помешало и этому намерению.
В 1444 году Владислав, король польский и венгерский, пал в битве с турками при Варне, и это событие имело важное значение в судьбах Литвы и Руси; оно снова затягивало связь их с Польшею, потому что бездетному Владиславу должен был наследовать брат его, осьмнадцатилетний Казимир литовский. Поляки, по мысли Збигнева Олесницкого, прислали звать Казимира к себе на престол; тот по внушениям литовцев долго не соглашался: на Петрковском сейме в 1446 году послы Казимировы, русские князья Василий Красный и Юрий Семенович, объявили панам прямой отказ своего князя наследовать брату на престоле польском; второе посольство поляков также не имело успеха; наконец Казимир должен был уступить их требованиям, когда узнал, что на сейме идет речь о выборе в короли Болеслава, князя мазовецкого, тестя и покровителя соперника его, Михаила Сигизмундовича. Затруднительно было положение Казимира между притязаниями поляков на литовские владения и стремлениями литовцев удержать свою самостоятельность относительно Польши; иногда дело доходило до явного разрыва, и больших усилий стоило Казимиру отвратить кровопролитие. Но этого мало: Орден является опять на сцену, чтоб отвлечь внимание государей польско-литовских от востока к западу. Грюнвальдская битва, нанесшая решительный удар Ордену, служила знаком ко внутренним беспокойствам в его владениях: ослабленные рыцари стали нуждаться теперь в помощи дворянства и городов; последние воспользовались обстоятельствами и начали требовать участия в правлении, начали требовать, чтоб при великом магистре находился совет, состоящий из выборных от Ордена, дворянства и главных городов, и чтоб на этом совете решались все важнейшие дела. Вследствие этих стремлений между Орденом, с одной стороны, дворянством и городами – с другой, начались неудовольствия, кончившиеся тем, что в 1454 году послы от дворян и городов прусских явились к королю Казимиру с просьбою принять их в свое подданство. Казимир согласился, и следствием этого была война с Орденом, война продолжительная, ведшаяся с переменным счастием и поглотившая все внимание короля и сеймов.
Такое затруднительное положение великого князя литовского, с одной стороны, и не менее затруднительное положение великого князя московского – с другой, сдерживало обоих, мешало значительным столкновениям Руси Юго-Западной с Северо-Восточною во все описываемое время. Но если не могло быть между Литвою и Москвою войны значительной, богатой решительными последствиями, то самые усобицы, однако происходившие одновременно и здесь и там, не могли допустить и постоянного мира между обеими державами, потому что враждующие стороны на северо-востоке искали себе пособия и убежища на юго-западе и наоборот. Свидригайло был побратим князю Юрию Дмитриевичу, следовательно, Василий московский должен был находиться в союзе с врагом Свидригайловым, Сигизмундом Кейстутовичем и сыном его Михаилом, а убийца Сигизмунда, князь Чарторыйский, жил у Шемяки и вместе с ним приходил воевать на Москву. Василий держал сторону Михаила и в борьбе его с Казимиром; мы видели, что в 1444 году, находясь в войне с Михаилом и Болеславом мазовецким, Казимир предлагал новгородцам помощь под условием подданства. Новгородцы не согласились на это предложение, и в 1445 году великий князь Василий послал нечаянно двух татарских царевичей на литовские города – Вязьму, Брянск и другие; татары много воевали, много народу побили и в плен повели, пожгли Литовскую землю почти до самого Смоленска и возвратились домой с большим богатством. Казимир спешил отомстить и отправил под Калугу 7000 войска под начальством семерых панов своих. Были они под Козельском и под Калугою, но не могли здесь сделать ничего и отошли к Суходрову; тут встретили их сто человек можайцев, сто верейцев и шестьдесят боровцев и сразились: русские потеряли своих воевод, литовцы также потеряли двести человек убитыми и возвратились домой. Это, впрочем, было единственное ратное дело с Литвою в княжение Василия; в 1448 году был в Москве посол литовский, а в 1449 году заключен был договор между королем Казимиром и великим князем Василием и его братьями: Иваном Андреевичем, Михаилом Андреевичем и Василием Ярославичем; Василий обязался жить с Казимиром в любви и быть с ним везде заодно, хотеть добра ему и его земле везде, где бы ни было; те же обязательства взял на себя и Казимир. Договаривающиеся клянутся иметь одних врагов и друзей; Казимир обязывается не принимать к себе Димитрия Шемяки, а Василий – Михаила Сигизмундовича. Если пойдут татары на украинские места, то князьям и воеводам, литовским и московским, переславшись друг с другом, обороняться заодно. Казимир и Василий обещают не вступаться во владения друг друга, и в случае смерти одного из них другой должен заботиться о семействе умершего. Обязываются помогать друг другу войском в случае нападения неприятельского; но это обязательство может быть и не исполнено, если союзник будет занят сам у себя дома войною. Орду великий князь московский знает по старине, ему самому и послам его путь чист в Орду чрез литовские владения. С первого взгляда последнее условие кажется странным: для чего было московскому князю или послам его ездить в Орду чрез литовские владения? Но мы не должны забывать, что при усобицах княжеских победитель захватывал пути в Орду, чтоб не пропускать туда соперника, и для последнего в таком случае было очень важно проехать беспрепятственно окольными путями. Далее, договаривающиеся обязываются не трогать служилых князей. Василий московский называет себя в договоре князем новгородским и требует от Казимира, чтобы тот не вступался в Новгород Великий, и во Псков, и во все новгородские и псковские места, и если новгородцы или псковичи предложат ему принять их в подданство, то король не должен соглашаться на это. Если новгородцы или псковичи нагрубят королю, то последний должен уведомить об этом великого князя московского и потом может переведаться с новгородцами и псковичами, и Василий не вступится за них, не будет сердиться на Казимира, если только последний не захватит их земли и воды. Казимир обязывается держать с немцами вечный мир, с новгородцами особенный мир, с псковичами особенный, и если станут они воевать друг с другом, то король не вмешивается в их дело. Если новгородцы или псковичи нагрубят великому князю московскому и тот захочет их показнить, то Казимиру за них не вступаться. Великий князь Иван Федорович рязанский в любви с великим князем московским, старшим своим братом, и потому король не должен обижать его, и если рязанский князь нагрубит Казимиру, то последний обязан дать знать об этом Василию, и тот удержит его, заставит исправиться; если же рязанский князь не исправится, то король волен его показнить, и московский князь не будет за него заступаться; если же рязанский князь захочет служить королю, то Василий не будет за это на него сердиться или мстить ему.
Войны не было после этого между Москвою и Литвою, но и договор не был соблюдаем; Михаил Сигизмундович был принят в Москве, где и умер в 1452 году, в одно время с знаменитым Свидригайлом; с своей стороны Казимир принял сына Шемяки и потом Ивана Андреевича можайского и Ивана Васильевича серпуховского: Шемячич получил во владение Рыльск и Новгород Северский; Можайский получил сперва Брянск, потом Стародуб и Гомей. Видим новые переговоры между великими князьями – московским и литовским, причем митрополит Иона является посредником. Рязанцы опустошали литовские владения и входили за промыслами туда, куда им издавна входов не бывало; Казимир жаловался на это великому князю рязанскому Ивану Федоровичу, но получил ли удовлетворение – неизвестно.
Московские удельные князья бежали в Литву вследствие стремлений своего старшего, великого князя к единовластию; но чего они не хотели в Москве, тому самому должны были подвергнуться в Литве: они не могли быть здесь князьями самостоятельными и, принимая волости от внука Олгердова, клялись быть его подручниками, слугами, данниками. В тех же самых отношениях к литовскому великому князю были уже давно все князья Рюриковичи Юго-Западной Руси.
Литва не мешала московскому князю утверждать единовластие на северо-востоке по смерти Шемякиной; мешали тому татары: в 1449 году отряд их внезапно явился на берегах реки Похры и много зла наделал христианам, сек и в полон вел. Великого князя обвинили в том, что он любит татар, кормит их, принимает в службу; в настоящем случае поведение Василия получило полное оправдание, потому что против грабителей выступил татарский же царевич Касим из Звенигорода, разбил их, отнял добычу, прогнал в степь. И в следующем году Касим оказал такую же услугу Москве, разбивши татар вместе с коломенским воеводою Беззубцевым на реке Битюге. Но в 1451 году дело было значительнее: великому князю дали весть, что идет на него из-за Волги царевич Мазовша; Василий, не собравшись с силами, вышел было к Коломне, но, услыхав, что татары уже подле берега, возвратился в Москву, а всех людей своих отпустил к Оке с воеводою, князем Иваном звенигородским, чтоб препятствовать, сколько можно долее, переправе татар через реку; но Звенигородский испугался и вернулся также назад, только другим путем, а не прямо за великим князем. Между тем Василий, пробыв Петров день в Москве, укрепил (осадил) город, оставил в нем свою мать княгиню Софью Витовтовну, сына князя Юрия, множество бояр и детей боярских, митрополита Иону, жену с другими детьми отпустил в Углич, а сам со старшим сыном Иваном отправился к Волге. Татары подошли к Оке, думая, что на берегу стоит русская рать, и, не видя никого, послали сторожей на другую сторону реки посмотреть, не скрылись ли русские где в засаде. Сторожа обыскали всюду и возвратились к своим с вестию, что нет нигде никого. Тогда татары переправились через Оку и без остановки устремились к Москве и подошли к ней 2 июля. В один час зажжены были все посады, время было сухое, и пламя обняло город со всех сторон, церкви загорелись, и от дыма нельзя было ничего видеть; несмотря на то, осажденные отбили приступ у всех ворот. Когда посады сгорели, то москвичам стало легче от огня и дыма, и они начали выходить из города и биться с татарами; в сумерки неприятель отступил, а граждане стали готовить пушки и всякое оружие, чтоб отбивать на другой день приступы; но при солнечном восходе ни одного татарина уже не было под городом: в ночь все убежали, покинувши тяжелые товары, медь, железо. Великая княгиня Софья тотчас же послала сказать об этом сыну, который в то самое время перевозился через Волгу при устье Дубны; Василий немедленно возвратился в Москву и утешал народ, говоря ему: «Эта беда на вас ради моих грехов; но вы не унывайте, ставьте хоромы по своим местам, а я рад вас жаловать и льготу давать». Через три года татары попытались было опять тем же путем пробраться к Москве, но были разбиты полками великокняжескими у Коломны. В 1459 году новый приход татар к берегам Оки: на этот раз отбил их старший сын великого князя, Иоанн Васильевич. На следующий год хан Большой Орды Ахмат приходил с всею силою под Переяславль Рязанский в августе месяце, стоял шесть дней под городом и принужден был отступить с уроном и стыдом. Это было последнее нападение из Большой Орды в княжение Василия; с Казанью был нарушен мир в 1461 году; великий князь собрался идти на нее войною, но во Владимире явились к нему послы казанские и заключили мир.









