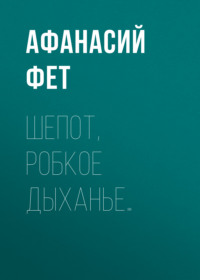полная версия
полная версияРассказы
В этом хи-хи-хи было столько искренней веселости, оно звучало так же визгливо, как будто я застал Каленика на пороге конюшни над неспелым арбузом и побранил, зачем он ест всякую дрянь.
Тут я в первый раз понял, что у него нет убеждения. Одно чутье, один гений – и больше ничего. Но, увы! наши способности развиваются всегда одни на счет других. И Каленик подвергся общему закону развития. Он положительно знал уже, что такое пепероски, находил у лошадей хвинтазию, утверждал, что морды у них оттого искусаны, что они в стойлах по ночам заводят канитель, и наконец торжественно пришел просить, чтоб ему сшили плисовую поддевку.
Вероятно, вследствие образования, он уже считал для себя неприличным отвечать на вопросы о погоде, а я подозреваю, что он совершенно утратил свое второе зрение и вошел в чреду обыкновенных людей, о которых говорить более нечего.
Дядюшка и двоюродный братец
Начало и конец
Мазурка приходила к концу. Люстры горели уже не так ярко. Многие прически порастрепались, букеты увяли, даже терпеливые камелии видимо потускнели. Адъютант, танцевавший в первой паре, объявил, что это последняя фигура.
– Посмотрите, как весел Ковалев, – сказала моя дама, обращаясь ко мне, – как ловко он несется с С…вой. Сейчас видно, что он счастлив. И точно, она прехорошенькая!
Я кивнул головой в знак согласия.
– Отчего вы так милостиво киваете головой? Неужели вы не удостоиваете сказать слова в честь красоты С…вой?
– Когда солнце на небе, звезды…
– Пожалуйста, без общих мест. Право, она прелестна, да и Ковалев такой милый…
– Весьма приятно будет мне передать ему ваше лестное о нем мнение.
– Это не одно мое мнение, но всех, кто его знает.
Между тем мазурка кончилась. Стулья загремели, и я раскланялся с моей дамой.
– На два слова, – сказал Ковалев, взяв меня под руку и отводя в соседнюю комнату. – Мы скоро уезжаем?
– Сейчас же.
– Как это можно? С последнего собрания, да еще и перед походом.
– Мазурка кончена. Что ж тут делать?
– Верно, будет полька, а может быть, и галопад.
– Бог с ними!
– Ну так слушай: у меня есть до тебя просьба.
– Сделай милость…
– Ты знаешь, мы выходим послезавтра в поход, а вам кажется, назначено месяца через два.
– Да.
– Когда вы выйдете, кто поступит на ваши квартиры?
– Никто.
– Ты где оставишь лишние вещи?
– В моем казенном домике.
– Кто за ними присмотрит?
– Поселенный инвалид.
– Позволь и мне прислать к тебе свой хлам, воз целый наберется. Чего там нет! Седел, мундштуков, корд, мебели, книг, старых бумаг – одним словом, всякой дряни… А нам велено очистить квартиры под резервы.
– Пожалуйста, не ораторствуй, а присылай.
– Спасибо. Прощай.
Я уехал в гостиницу, переоделся и в восемь часов утра был уже в штабе полка.
Когда полк наш, в свою очередь, выступил в поход, уланы, в которых служил Ковалев, были уже в Венгрии. В Новомиргороде нас остановили до особого приказания. Этого приказания мы ждали с нетерпением. Раз, когда мы собрались на плац перед гауптвахтою на офицерскую езду, к кружку офицеров подошел поручик П.
– Знаете ли, господа, печальную новость. Сестра пишет мне, что Ковалев убит. Первое неприятельское ядро, направленное против их полка, попало ему в грудь.
Я не хотел верить этому известию – так живо представлялся мне веселый, счастливый Ковалев на последнем бале. Но сомнения исчезли, когда, недели через три, я прочел в газетах о смерти штабс-ротмистра Ковалева.
И война кончилась. Мы возвратились на старые квартиры. Куда мне было деваться с имуществом Ковалева? Я знал, что он был совершенно одинок. Да и вещи-то были по большей части офицерские принадлежности, не только другого полка, но и другого оружия, следовательно, купить их было у нас некому. Желая отыскать какие-нибудь положительные сведения о родине Ковалева, я стал рыться в его бумагах. В одном из сундуков с книгами мне попалась писаная тетрадь без начала и без конца. От нечего делать я прочел ее и нашел если не повесть, то, по крайней мере, несколько очерков. Дело идет о дяде и двоюродном брате. Под этим именем, выставленном мною на ;дачу в заголовке, представляю тетрадь на суд благосклонного читателя.
De mortuis nihil nisi bene![6]
I. Журнал
– Ну-с! далее! – говорил Василий Васильевич.
– Дублин, Портсмут, Плимут, Ярмут – портовые города, – повторил я однообразным и несколько печальным напевом, а между тем зрачки мои были обращены к окну и все внимание устремлено в палисадник. Там, на одном из суков старой липы, висела западня, а посреди сугробов, на протоптанной тропе, лежали четыре кирпича, соприкасающиеся так, что образовывали продолговатое четвероугольное углубление, над которым, в виде крыши, опираясь на подчинку, стоял наискось пятый кирпич. Следовательно, и этот несложный механизм был тоже западней.
– Ну-с! далее!
– Дублин, Портсмут, Плимут, Ярмут – портовые города, – проговорил я таким тоном, как будто сторицею платил до последней копейки старый долг, а «портовые города» произнес на этот раз так, что всякий посторонний подумал бы: «Да чего же он еще хочет от дитяти? Уж если он и теперь недоволен, так бог его знает, как ему угодить».
Но Василья Васильевича нелегко было удовлетворить в подобном случае.
– Вы урока не знаете, – сказал он, – извольте идти в угол.
– Помилуйте, Василий Васильевич, да я знаю. Сейчас все скажу: Чичестер.
– А! вот, давно бы так! – заметил Василий Васильевич одобрительным голосом.
Но мог ли я не смотреть в палисадник? Три синицы вылетели из покрытого тяжелым инеем сиреневого куста и жадно бросились на пустую шелуху конопляного семени, выброшенную ветром из западни. Не нашед ожидаемой пищи, они порхнули в разные стороны. Одна начала прыгать по кирпичам, лукаво заглядывая внутрь отверстия; две другие сели на западню. Одна из них, вопреки вертлявой своей природе, сидела неподвижно наверху качающейся клетки и заливалась таким звонким свистом, что последние ноты его долетали до моего слуха сквозь двойные стекла. Ветер, запрокидывая перышки на ее голове, придавал ей какой-то странный, надменный вид. Третья оказалась или самой глупой, или самой жадной. Она бойко прыгала по дверцам западни и так наклонялась к корму, что я с каждой минутой ждал – вот-вот она прыгнет на жердочку, и тогда…
– Ну-с! далее! – сказал Василий Васильевич.
В эту минуту западня захлопнулась, и пойманная синица заметалась по клетке. Стул опрокинут, чернила пролиты, и в несколько прыжков я уже на дворе. Ноги по колено в снегу, но зато рука в клетке и чувствует во власти своей эту вертлявую, нарядную синичку.
Я знал, где у Сережи (бедного мальчика, взятого в дом для возбуждения во мне рвения к наукам) стояли пустые клетки. Синица посажена, и я, раскрасневшись от холода и радости, вбежал в классную, крича во все горло: «Чичестер, Дорчестер»; но уж было поздно: Сережа, с смиренным видом исправителя чужих прегрешений, втягивал бумажной дудочкой пролитые чернила и вливал их таким образом снова в чернильницу. Василий Васильевич ходил разгневанный по комнате. А между тем самый-то главный птицелов был Сережа, и западня была его. Но, приводя в порядок классный стол, он вздыхал так укоризненно для меня, что Василий Васильевич не мог не видеть всего нравственного превосходства Сережи надо мной.
При взгляде на них я уже знал свою судьбу.
– Становитесь на колени! – сказал Василий Васильевич.
Я повиновался. Если мне и больно было стоять на коленях, то в этом случае я утешался примером спартанских юношей, с таким геройством переносивших удары розог (едва ли не единственный факт древней истории, врезавшийся мне в память).
Стоя на коленях, я страдал душевно. Мне казалось, что уже поднялась суматоха; что горничные бегут из портной швальни в девичью, с холодными утюгами и горячими лицами; что дворовые загоняют распущенных по барскому двору кур и гусей; что за версту с горы спускается зимний возок и за ним кибитка с кухней и что по всему дому вполголоса раздается: «Барин едет». Все это живо рисовалось в моем воображении, и мне становилось страшно…
Я очень хорошо помнил, как батюшка, уезжая, говорил: «Да ты, Василий Васильич, заведи журнал и записывай мне каждый день, как он учился, как вел себя. Я знаю, он не захочет топтать в грязь мои труды, мой пот. Я езжу по имениям, хлопочу, на трудовую копейку нанимаю учителей – он это понимает. А ты, Василий Васильич, заведи журнал».
Я знал, что в настоящую минуту этот журнал исписан почти кругом, и видел, как Василий Васильевич (он спал в классной) вытащил его из-под своей подушки и стал в нем писать. Без сомнения, и сегодня будет написано, как это случалось по большой части: «Урока не знал, писал худо, в классе вел себя неприлично». Кроме того, матушка, войдя в класс, могла увидеть меня в таком унизительном положении. Начались бы увещания, отчаяние касательно будущей моей учености, а главное, матушка не преминула бы выставить на вид образцовое поведение и примерные успехи в науках и искусствах моего кузена, Аполлона Шмакова.
– Вот ребенок, с которого ты должен брать пример. Он двумя годами только старше тебя, а посмотри, какие милые французские письма ко мне он пишет и какие прописи прислал в подарок. Василий Васильич, отчего вы не можете дать ребенку этот почерк?
На это Василий Васильевич обыкновенно возражал: «Да помилуйте, сударыня, эти буквы все наведены по карандашу», с чем матушка никогда, по крайней мере явно, не соглашалась. Стоя на коленях, под влиянием стыда и страха, я старался как можно скорее вбить себе в голову несносный урок, и когда Василий Васильевич через полчаса возвратился в классную, из которой уходил в соседнюю комнату потянуть перед топящейся печкой Жукова, я, не дав ему времени уложить под подушку запрещенные орудия удовольствия, закричал:
– Василий Васильич, я знаю…
– Не знаете.
– Извольте прослушать: Дублин, Портсмут…
Урок сказан, и я получил прощение.
А грозный журнал – боже! как быть? Говорят, детство самое блаженное время. Для меня оно было исполнено грозных, томительных призраков, окружавших такую же тяжелую действительность. Единственная моя отрада в грустных воспоминаниях детства – сознание, приобретенное впоследствии, что меня воспитывали не просто, а по системе! Когда матушка, ввивало, прикажет летом выносить на солнце отцовское платье и растворить в кабинете шкап, то я, рассматривал мамонтов зуб, раковины и янтари на нижней полке, находил на второй, между старыми нумерами «Вестника Европы», все сочинения Ж.-Ж. Руссо и, кроме того, «Эмиля»[7] на французском, немецком и русском языках. Вот почему за столом, когда матушка начнет, бывало, столь убийственное для меня сравнение с кузеном Аполлоном, батюшка постоянно прерывал ее:
– Оставьте, пожалуйста! Может быть, я в другом ничего не знаю, но в воспитании я фанатик. Это моя идея! Аполлона сестра губит; он у нее и теперь смешон. Что это такое? Ребенок – старик. Нет, нет, это не моя метода! (В это время я обыкновенно наливал себе стакан холодной воды, хотя пить мне вовсе не хотелось.) Ты, Василий Васильевич, более на прогулках старайся преподавать – это приятно остается в памяти, – где-нибудь в роще, на чистом воздухе…
Батюшка не знал, что все четыре легавые собаки всегда сопутствовали нам на ученых прогулках и до того разбаловались, что ничего не искали, кроме ежей и зайцев. Ужасный лай их сильно занимал меня; да и учитель, бывало, велит набрать Сереже ежей и несет к реке, любопытствуя видеть, как ловко они плавают, загнув кверху свое острое, свиное рыльце. Но каково бы ни было мнение посторонних, я всегда буду утверждать, что родители сильно заботились о моем воспитании и не допускали ни малейшего уклонения от принятой однажды наилучшей системы. Вследствие этой системы до шести лет мне не давали мяса, а до совершенной перемены зубов – ничего, в чем заключалась хоть малейшая частица сахару. Батюшка, заметив несколько раз, как я, за обедом, прислонялся к спинке стула, даже приказал Ивану столяру отпилить эту спинку и навести лак на отпиленных местах. Если я не съедал тарелки ненавистного мне супа из перловых круп и не съедал приводящих меня и поныне в содрогание пирожков с морковью, меня после обеда запирали на ключ в отдаленную комнату. Батюшка любил эти пирожки, и они подавались два раза в неделю. Несмотря на бившую меня лихорадку, я принужден был есть их – разумеется, для моей же пользы.
На учителей ничего не жалели. У меня перебывало их много. Кроме иностранцев, все они были из семинарии и получали в год даже до 300 р. ассигн. Костюм у всех, при появлении, состоял из иверолисового сюртука светло-табачного цвета. Исключения не помню. Время пребывания их в доме можно было определить количеством платья каждого. Через полгода обыкновенно появлялся сюртук тонкого сукна оливковый, через год такой же – черный, через полтора – оливкового цвета шинель и, наконец, через два – черная фрачная пара. Высота галстука соответствовала личным достоинствам и степени учености каждого. Большая часть наставников редко доходила далее оливкового сюртука; один Василий Васильевич дожил до фрака: поэтому позволю себе сказать о нем несколько слов. Это был человек с необыкновенными способностями вырезывать из клена ложки точь-в-точь такой же формы, как серебряные. Из обломков черепахи во время класса он делал, для горничных, перочинным ножом такие подвески, что вся девичья не могла надивиться. По поводу Аннушки, я даже открыл, что Василий Васильич был поэт. Описывать Аннушку не стану. Когда, впоследствии, я читал у Пушкина:
Коса змеей на гребне роговом;Из-за ушей змиями кудри русы;Косыночка крест-накрест, иль узлом,На тонкой шейке восковые бусы[8],мне всегда представлялась Аннушка. Все было точно так, даже бусы не забыты. Прибавьте к этому ее мастерство переделывать старые шелковые платья, которые матушка ей дарила, да по праздникам шелковый пояс, с распущенным концом, и ленты из-под блестящей тульской пряжки, подаренной чуть ли не Васильем Васильевичем. Однажды, ранее обыкновенного пришедши в классную, я нашел на письменном столике учителя, ушедшего на прогулку, лист бумаги, написанный красивыми, но весьма неровными строчками. Читаю:
Цветок милый и душистый,Цвети для юности моей…В это время послышались шаги, и вот причина, по которой я не знаю продолжения этих прекрасных стихов. Гордый человек был Василий Васильевич! Хотя он прибыл в дом в иверолисовом сюртуке, но галстук постоянно подвязывал под самые уши, над которыми весьма авантажно красовались два густо напомаженные завитка. Несмотря, однако ж, на гордость свою, спины Василий Васильевич не любил ни к кому оборачивать: там, на сюртуке, был изъянец, в виде продолговатого желтого пятна, появившегося, вероятно, от нечаянно раздавленной ягоды. Это пятно Сережа прозвал островом Мадагаскаром. Не знаю, проведал ли об этом Василий Васильевич, но когда, бывало, матушка придет с чулком в класс и спросит: «Отчего вы, Василий Васильич, никогда не повторите с ребенком Африки?» Василий Васильевич, заметно краснея, отвечал постоянно: «Помилуйте, сударыня! да это чистая степь: стоит ли на нее время тратить; да и народ-то такой невежественный». При всем уважении к Василью Васильевичу, я не мог утерпеть, чтоб не сказать «Maman! Да я знаю остров Мадагаскар». В подобные минуты лицо Сережи принимало самое кроткое выражение. Раза два, во время пребывания в нашем доме, Василий Васильевич, задав нам уроки, уезжал по своим делам недели на две. Тогда матушка вступала в дело преподавания. Я любил слушать, когда она с увлечением рассказывала о воспитании и подвигах Кира[9], о уважении Александра[10] к своему учителю, о мученической смерти добродетельного Сократа[11]. Из уроков Василья Васильевича помнил я только, что какие-то народы с глумом и яростью устремлялись куда-то. В часы, назначенные для алгебры, матушка задавала нам задачи из арифметики, и тут я не раз ставил ошибкой единицы под десятками, отчего сумма, несмотря на точное соблюдение всех правил операции, выходила какая-то странная. Так однажды из 22 + 22 у меня совершенно верно вышло 242. Такие решения задач кончались неутешными слезами матушки, что я объяснял наклонностью ее к истерике. Несмотря на подобные сцены, матушка прослушивала уроки из всех предметов, придерживаясь отчасти рациональной системы батюшки, по которой ребенок прежде всего должен понимать то, что учит. Заметив однажды, по певучести, с какою я, говоря урок из латинской грамматики, произносил: mare-ris – море, cete-torum – кит, матушка приказала мне заучить: mare-море, ris – море, cete – кит, torum – кит. Василий Васильевич остался недоволен подобным знанием, хотя и не объяснил мне, что ris и torum окончания родительных падежей. Из всего сказанного ясно, почему батюшка называл воспитание кузена Аполлона дешевеньким и дюжинным, прибавляя: «Нет, нет, это все цветочки, да листочки, и для моих детей этого мало».
Так проходили дни за днями. Однажды, месяца два спустя, после первого решительного приказания со стороны батюшки вести журнал, из дальней деревни пришел обоз с пшеницей, и с этой оказией матушка получила уведомление о скором прибытии батюшки. Не умею описать моего страха при этом известии. Пускай бы Василий Васильевич сказал разом, что я был неисправен, а то батюшка увидит на каждой странице, на каждой строчке: «худо», «нехорошо», «нерадиво», «лениво»… Нет, это выше сил моих! Весь день до вечера я был как в лихорадке. Наконец я решился. Когда Василий Васильевич вышел в столовую, я судорожно выхватил грозный журнал из-под подушки и, спрятав под полою, выбежал в палисадник, убедившись наперед, что никто меня не увидит. Выдернув одну из забытых подпорок, к которой летом привязываются георгины, я засунул ею журнал в одно из глухих окон в фундаменте, так, однако ж, чтоб мог, в крайности, достать его. На другой день к вечеру батюшка приехал. Выслушав приказчика, старосту, ключника и повара, он за чаем обратился к Василью Васильевичу с вопросом: «А каково он учился?» – «Неудовлетворительно». – «Покажите журнал!» Василий Васильевич пошел искать тетрадку. Журнал куда-то заложился. Положение Василья Васильевича было не из лучших, хотя батюшка только и сказал ему: «Да как же это ты не вел журнала-то? Ведь я говорил тебе. Да нет, нет, да-таки нет, нет, Василий Васильич, так нельзя!» Жаль мне было и Василья Васильевича, а тем не менее журнал со всей нисходящей линией покоится по сей день в известном окне фундамента.
II. Приезд
Двадцать второго июня, накануне именин матушки, часа в четыре после обеда, дом наш представлял совершенный образец тишины и порядка. Полы и окна вымыты мылом, чехлы на мебели надеты ослепительной белизны, кресла вокруг овального стола в гостиной расставлены самым правильным полукругом, с люстры снят кисейный чехол, и все рожки уставлены восковыми свечами. Матушка сидела у растворенного окна за какой-то работой. Батюшка расхаживал по зале, от времени до времени подходил к тому же окну и, доглядев на большую дорогу, повторял: «Странно, Однако ж, что сестра не едет». – «Да, пора бы им приехать», – замечала матушка. «От постоялого двора, где они ночевали, всего верст сорок; да верно на пароме задержали». Матушка еще накануне объявила мне, что тетушка Вера Петровна и дядюшка Павел Ильич привезут кузена Аполлона[12], и тогда я увижу, какой это воспитанный мальчик. Зависть к Аполлону уже заочно так сильно развилась во мне, что я боялся его увидеть. Но делать было нечего. Еще несколько часов – он приедет и совершенно затмит меня. Все напоминавшее о завтрашнем дне приводило меня в содрогание. Дворовые девочки, возвращавшиеся из кухни, где Павел-кондитер заставлял их завертывать конфеты, батареи оправленных свечей с затейливыми бумажными кружевами в лакейской, груда складных столов, запрятанных под лестницей, ведущей в мезонин, даже синий полуфрачок с ясными пуговицами и батистовый воротничок, на котором рукою Аннушки с таким искусством вышиты бабочки, – напоминали неизбежное торжество Аполлона и были мне противны.
Из-за рощи по большой дороге показалась тяжелая желтая карета шестериком и за ней крытая бричка тройкой. «Это они!» – воскликнула матушка. «Да, это сестра», – сказал батюшка, и вслед за тем все, даже Василий Васильевич, отправились на крыльцо. Карета остановилась; два худощавые лакея в поношенных серых ливреях и совершенно измятых треуголках быстро соскочили с запяток и стали по обеим сторонам дверцы. «Ну, Евсей! Андриян! Ах, какие вы!» – послышался пискливый, резкий женский голос из кареты. Дверца отворилась, и подножка, стукнув восемь раз, образовала пеструю лестницу такой вышины, какой с тех пор не удавалось мне видеть ни при одном экипаже. «Ах! Павел Ильич, ком ву зет!»[13] – послышался тот же голос. «Сейчас, матушка. Дай хоть ноги расправить, а то вот тут Аполлоновы книги в коробке». – «О, ком ву зет!» В это время седой старичок в коричневом сюртуке, круглой шляпе, белом галстуке, с огромной махровой манишкой, наподобие цветной капусты, и с синим клетчатым платком в правой руке, поддерживаемый двумя лакеями, начал, спотыкаясь, сходить по ступенькам. «Вот и дядюшка Павел Ильич!» – сказал батюшка, обращаясь ко мне. Я подошел к руке. «Прошу полюбить», – сказал Павел Ильич, целуя меня в голову. «Да какой он у вас молодец!» Вслед за дядюшкой свежая и проворная старушка лет шестидесяти, без помощи лакеев, смело сбежала по ступенькам и бросилась попеременно осыпать частым рядом поцелуев батюшку, матушку и меня, приговаривая: «О! о! мон шер – о! о! ма шер – о! о! мон шер…»[14]
Тетушку я знал еще прежде. Ее живое, бойкое, хотя покрытое морщинами лицо, осененное широкими блондовыми оборками чепца, большие, быстрые, голубые глаза и вся фигура составляли резкую противоположность с наружностью ее супруга, выражавшей невозмутимый душевный мир и желание покоя. Костюм тетушки никогда не изменялся: серизовое шелковое платье, красная кашмировая шаль и зеленый бархатный ридикюль. «Апишь! вене иси! – закричала тетушка, – фет вотр реверанс а вотр трешер тант; амбрасе вотр кузен». «О ком вузет эмабль!»[15] – прибавила она, обращаясь ко мне. Все общество отправилось в гостиную. Казалось, как взглянуть на Аполлона – страшно! а между тем я осматривал его с головы до ног. Старше меня двумя годами, он был значительно ниже меня ростом, хотя на нем был фрак бутылочного цвета, галстук с огромным бантом и на носу огромные стальные очки. В гостиную он вошел, заложа обе руки за спину под фалды фрака, которыми болтал с самодовольным видом. «Апишь! вене иси, фет вотр реверанс!» Но это увещание оказалось совершенно излишним, потому что Аполлон, расправляя свои хитро взбитые волосы, выделывал руками, ногами и плечами какие-то ловкие штуки, что меня бросало в краску от зависти. Между старшими начались разговоры. Я сел подле Аполлона. «Где вы намерены служить?» – спросил он. Я отвечал «не знаю» и сделал ему также вопрос. «Разумеется, в гусарах», – отвечал Аполлон и при этом так торкнул ножкой, что я не мог не видеть в нем будущего гусара. «Апишь! вене иси!» – раздался снова голос тетушки. «Вера Петровна! дай, матушка, хоть с дороги-то отдохнуть ребенку. Пусть познакомится с двоюродным братцем; пойдут погуляют». – «О! о! Это правда, это правда!» Но едва мы дошли до дверей гостиной, как снова раздалось: «Апишь! вене иси!» «Василий Васильич, а каково успевает ваш ученик?» – «Весьма порядочно», – отвечал, поклонившись, Василий Васильевич. «О-о! я знаю, он философ! Вене иси!» Это относилось уже ко мне. Я подошел, робко смотря на тетушку. «Чем ты хочешь быть?» – «Не знаю». – «У, у! мон шер, как это можно? хочешь быть профессором?» – «Нет!» – «У! у! каков? А доктором?» – «Нет». – «Почему?» Я не знал, что отвечать; но, подумав, сказал: «Мне не нравится». – «Почему?» Я молчал. «Почему?» Ни слова. «Да отвечай же, когда тебя спрашивают!» – заметил батюшка. Я не люблю докторов», – произнес я шепотом и почти заплакал. «Ха, ха, ха! О! о! ком иль э костик!»[16] Совершенно растерявшись, я отошел от тетушки, ища предлога ускользнуть из комнаты, где каждую минуту меня ожидали испытания подобного рода. К счастью, Аполлон вывел меня из затруднительного положения, выскользнув за дверь. Я с радостью побежал за ним. Не отстал и Василий Васильевич. «Аполлон Павлыч! не угодно ли вам взглянуть на нашу классную и на спальню братца, где для вас приготовлена кровать?» – «Нет, насчет книг не беспокойтесь; мне и свои надоели, а вот комнату посмотрим». Мы вошли в так называемую детскую. Высокий, худощавый лакей, с багровым носом, таскал узлы, коробки с книгами и чемоданы, размещая их вокруг постели, назначенной Аполлону Павловичу. «Андриян! а какое ты мне на завтра платье приготовишь?» – «Синий фрачок, желтую пикейную жилетку», – проговорил худощавый лакей скороговоркой, встряхивая обеими руками несколько засаленные борты своего длиннополого сюртука, как бы желая придать им этим движением более свежий вид. «Вот еще что выдумал! Приготовь черный фрак с белыми брюками и белую жилетку». – «Маменька так приказывать изволила». – «А я тебе говорю: этого не будет». – «Апишь, кеске ву фет?»[17] – раздался голос тетушки, почти вбежавшей в детскую. «Андриян! – прибавила она шепотом, – что вы будете играть завтра?» – «Что прикажете-с, – отвечал худощавый, не встряхивая на этот раз бортов сюртука. – Из «Слепых» можно-с, из «Калифа Багдадского-с». – «Апишь, кеске ву фет?» – «Я не надену синего фрака. Это бог знает что!» – «Парле франсе. О! о! ком ву зет!»[18] Несколько минут продолжался спор и кончился тем, что Аполлон таки наденет черный фрак.