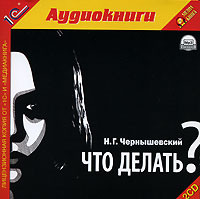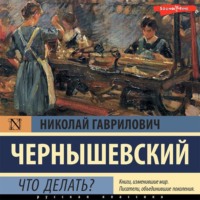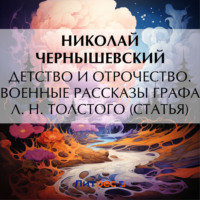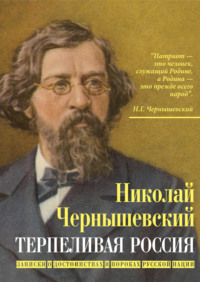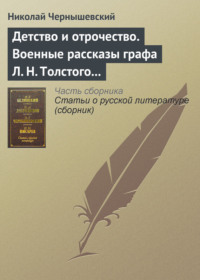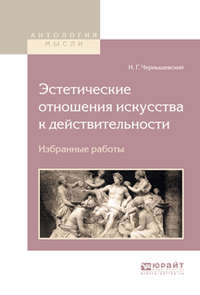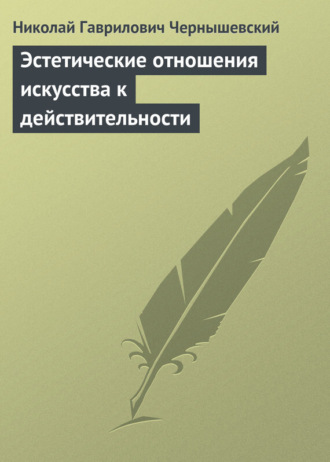 полная версия
полная версияЭстетические отношения искусства к действительности
Итак, должно сказать, что новое понятие о сущности прекрасного, будучи выводом из таких общих воззрений на отношения действительного мира к воображаемому, которые совершенно различны от господствовавших прежде в науке, приводя к эстетической системе, также существенно различающейся от систем, господствовавших в последнее время, и само существенно различно от прежних понятий о сущности прекрасного. Но с тем вместе оно представляется как их необходимое дальнейшее развитие. Существенное различие между господствующею и предлагаемою эстетическими системами будем видеть постоянно; чтобы указать на точку тесного родства между ними, скажем, что новое воззрение объясняет важнейшие эстетические факты, которые выставлялись на вид в прежней системе. Так, например, из определения «прекрасное есть жизнь» становится понятно, почему в области прекрасного нет отвлеченных мыслей, а есть только индивидуальные существа – жизнь мы видим только в действительных, живых существах, а отвлеченные, общие мысли не входят в область жизни.
Что касается существенного различия прежнего и предлагаемого нами понятия о прекрасном, оно обнаруживается, как мы сказали, на каждом шагу; первое доказательство этого представляется нам в понятиях об отношении к прекрасному возвышенного и комического, которые в господствующей эстетической системе признаются соподчиненными видоизменениями прекрасного, проистекающими от различного отношения между двумя его факторами, идеею и образом. [По гегелевской системе] чистое единство идеи и образа есть то, что называется собственно прекрасным; но не всегда бывает равновесие между образом и идеею; иногда идея берет перевес над образом и, являясь нам в своей всеобщности, бесконечности, переносит нас в область абсолютной идеи, в область бесконечного – это называется возвышенным (das Erhabene); иногда образ подавляет, искажает идею – это называется комическим (das Komische).
Подвергнув критике коренное понятие, мы должны подвергнуть ей и вытекающие из него воззрения, должны исследовать сущность возвышенного и комического и их отношения к прекрасному.
Господствующая эстетическая система дает нам два определения возвышенного, как давала два определения прекрасного. «Возвышенное есть перевес идеи над формою», и «возвышенное есть проявление абсолютного». В сущности эти два определения совершенно различны, как существенно различными найдены были нами и два определения прекрасного, представляемые господствующею системою; в самом деле, перевес идеи над формою производит не собственно понятие возвышенного, а понятие «туманного, неопределенного» и понятие «безобразного» (das Hässliche) [как это прекрасно развивается у одного из новейших эстетиков, Фишера, в трактате о возвышенном и во введении к трактату о комическом]; между тем как формула «возвышенное есть то, что пробуждает в нас (или, [выражаясь терминами гегелевской школы], – что проявляет в себе) идею бесконечного» остается определением собственно возвышенного. Потому каждое из них должно рассмотреть особенно.
Очень легко показать неприложимость к возвышенному определения «возвышенное есть перевес идеи над образом», после того как сам Фишер, его принимающий, сделал это, объяснив, что от перевеса идеи над образом (выражая ту же мысль обыкновенным языком: от превозможения силы, проявляющейся в предмете, над всеми стесняющими ее силами, или, в природе органической, над законами организма, ее проявляющего) происходит безобразное или неопределенное («безобразное» сказал бы я, если бы не боялся впасть в игру слов, сопоставляя безобразное и безобразное). Оба эти понятия совершенно различны от понятия возвышенного. Правда, безобразное бывает возвышенным, когда оно ужасно; правда, туманная неопределенность усиливает впечатление возвышенного, производимое ужасным или огромным; но безобразное, если оно не страшно, бывает просто отвратительно или некрасиво; туманное, неопределенное не производит никакого эстетического действия, если не огромно или не ужасно. Безобразием или туманною неопределенностью характеризуются не все роды возвышенного; безобразное или неопределенное не всегда имеет характер возвышенного. Очевидно, что эти понятия различны от понятия возвышенного. «Перевес идеи над формою», говоря строго, относится к тому роду событий в мире нравственном и явлений в мире материальном, когда предмет разрушается от избытка собственных сил; неоспоримо, что эти явления часто имеют характер чрезвычайно возвышенный; но только тогда, когда сила, разрушающая сосуд, ее заключающий, уже имеет характер возвышенности или предмет, ею разрушаемый, уже кажется нам возвышенным, независимо от своей погибели собственною силою. Иначе о возвышенном не будет и речи. Когда Ниагарский водопад, сокрушив скалу, его образующую, уничтожится напором собственных сил; когда Александр Македонский погибает от избытка собственной энергии, когда Рим падает собственной тяжестью, – это явления возвышенные; но потому, что Ниагарский водопад, Римская империя, личность Александра Македонского сами по себе уже принадлежат области возвышенного; какова жизнь, такова и смерть, какова деятельность, таково и падение. Тайна возвышенности здесь не в «перевесе идеи над явлением», а в характере самого явления; только от величия сокрушающегося явления заимствует свою возвышенность и его сокрушение. Само по себе исчезновение от перевеса внутренней силы над ее временным проявлением не есть еще критериум возвышенного. Яснее всего «перевес идеи над формою» высказывается в том явлении, когда зародыш листа, разрастаясь, разрывает оболочку почки, его родившей; но это явление решительно не относится к разряду возвышенных. «Перевесом идеи над формою», погибелью самого предмета от избытка развивающихся в нем сил отличается так называемая отрицательная форма возвышенного от положительной. Справедливо, что возвышенное отрицательное выше возвышенного положительного; потому надобно согласиться, что «перевесом идеи над формою» усиливается эффект возвышенного, как может он усиливаться многими другими обстоятельствами, напр., уединенностью возвышенного явления (пирамида в открытой степи величественнее, нежели была бы среди других громадных построек; среди высоких холмов ее величие исчезло бы); но усиливающее эффект обстоятельство не есть еще источник самого эффекта, притом перевеса идеи над образом, силы над явлением очень часто не бывает в положительном возвышенном. Примеры этого могут быть во множестве отысканы в каждом курсе эстетики.
Переходим к другому определению возвышенного: «возвышенное есть проявление идеи бесконечного» [выражаясь гегелевским языком], или, выражая эту философскую формулу обыкновенным языком: «возвышенное есть то, что возбуждает в нас идею бесконечного». Самый беглый взгляд на трактат о возвышенном в новейших эстетиках убеждает нас, что это определение возвышенного лежит в сущности [гегелевских] понятий о нем. Мало того, мысль, что возвышенными явлениями возбуждается в человеке предчувствие бесконечного, господствует и в понятиях людей, чуждых строгой науке; редко можно найти сочинение, в котором не высказывалась бы она, как скоро представляется повод, хотя самый отдаленный; почти в каждом описании величественного пейзажа, в каждом рассказе о каком-нибудь ужасном событии найдется подобное отступление или применение. Потому на мысль о возбуждении величественным идеи абсолютного должно обратить более внимания, нежели на предыдущее понятие о перевесе в нем идеи над образом, критику которого было достаточно ограничить несколькими словами.
К сожалению, здесь не место подвергать анализу идею «абсолюта», или бесконечного, и показывать настоящее значение абсолютного в области метафизических понятий; тогда только, когда мы поймем это значение, представится нам вся неосновательность понимания под возвышенным бесконечного. Но и не пускаясь в метафизические прения, мы можем увидеть из фактов, что идея бесконечного, как бы ни понимать ее, не всегда, или, лучше сказать, – почти никогда не связана с идеею возвышенного. Строго и беспристрастно наблюдая за тем, что происходит в нас, когда мы созерцаем возвышенное, мы убедимся, что 1) возвышенным представляется нам самый предмет, а не какие-нибудь вызываемые этим предметом мысли; так, например, величествен сам по себе Казбек, величественно само по себе море, величественна сама по себе личность Цезаря или Катона. Конечно, при созерцании возвышенного предмета могут пробуждаться в нас различного рода мысли, усиливающие впечатление, им на нас производимое; но возбуждаются они или нет, – дело случая, независимо от которого предмет остается возвышенным: мысли и воспоминания, усиливающие ощущение, рождаются при всяком ощущении, но они уже следствие, а не причина первоначального ощущения, и если, задумавшись над подвигом Муция Сцеволы, я дохожу до мысли: «да, безгранична сила патриотизма», то мысль эта только следствие впечатления, произведенного на меня независимо от нее самым поступком Муция Сцеволы, а не причина этого впечатления; точно так же мысль: «нет ничего на земле прекраснее человека», которая может пробудиться во мне, когда я задумаюсь, глядя на изображение прекрасного лица, не причина того, что я восхищаюсь им, как прекрасным, а следствие того, что оно уже прежде нее, независимо от нее кажется мне прекрасно. И потому, если бы даже согласиться, что созерцание возвышенного всегда ведет к идее бесконечного, то возвышенное, порождающее такую мысль, а не порождаемое ею, должно иметь причину своего действия «а нас не в ней, а в чем-нибудь другом. Но, рассматривая свое представление о возвышенном предмете, мы открываем, 2) что очень часто предмет кажется нам возвышен, не переставая в то же время казаться далеко не беспредельным и оставаясь в решительной противоположности с идеею безграничности. Так, Монблан или Казбек – возвышенный, величественный предмет: но никто из нас не думает, в противоречие собственным глазам, видеть в нем безграничное или неизмеримо великое. Море кажется беспредельным, когда не видно берегов; но все эстетики утверждают (и совершенно справедливо), что море кажется гораздо величественнее, когда виден берег, нежели тогда, когда берегов не видно. Вот факт, обнаруживающий, что идея возвышенного не только не порождается идеею безграничного, но даже может быть (и часто бывает) в противоречии с нею, что условие безграничности может быть невыгодно для впечатления, производимого возвышенным. Идем далее, пересматривая ряд величественных явлений по мере возрастания эффекта, ими производимого на чувство возвышенного. Гроза – одно из величественнейших явлений в природе; но необходимо иметь слишком восторженное воображение, чтобы видеть какую бы то ни было связь между грозою и бесконечностью. Во время грозы мы восхищаемся, думая при этом только о самой грозе. «Но во время грозы человек чувствует собственную ничтожность пред силами природы, силы природы кажутся ему безмерно превышающими его силы». Что силы грозы кажутся нам чрезвычайно превышающими наши собственные силы, это правда; но если явление представляется непреоборимым для человека, из этого еще не следует, чтобы оно казалось нам неизмеримо, бесконечно могущественным. Напротив, человек, смотря на грозу, очень хорошо помнит, что она бессильна над землею, что первый ничтожный холм непоколебимо отразит весь напор урагана, все удары молнии. Правда, удар молнии может убить человека; но что ж из этого? Не эта мысль причиною, что гроза кажется мне величественною. Когда я смотрю на то, как вертятся крылья ветряной мельницы, я также очень хорошо знаю, что, задев меня, мельничное крыло переломит меня, как щепку, я «сознаю ничтожность своих сил перед силою» мельничного крыла; а между тем едва ли в ком-нибудь взгляд на вертящуюся мельницу возбуждал ощущение возвышенного. «Но здесь не пробуждается во мне опасение за себя; я знаю, что мельничное крыло не зацепит меня; во мне нет чувства ужаса, какое пробуждается грозою». – Справедливо; но этим говорится уже совершенно не то, что говорилось прежде; этим говорится: «возвышенное есть ужасное, грозное». Посмотрим на это определение «возвышенного сил природы», которое в самом деле находим в эстетиках. Ужасное очень часто бывает возвышенным, это правда; но не всегда оно бывает возвышенным: гремучая змея, скорпион, тарантул ужаснее льва; но они отвратительно ужасны, а не возвышенно-ужасны. Чувство ужаса может усиливать ощущение возвышенного, но ужас и возвышенность – два совершенно различных понятия. Идем, однако, далее по ряду величественных явлений. В природе мы не видели ничего, прямо говорящего о безграничности; против заключения, выводимого отсюда, можно заметить, что «истинно возвышенное не в природе, а в самом человеке»; согласимся, хотя и в природе много истинно возвышенного. Но почему же «возвышенна» кажется нам «безграничная» любовь или порыв «всесокрушающего» гнева? Неужели потому, что сила этих стремлений «неодолима», «пробуждает идею бесконечного своею неодолимостью»? Если так, то гораздо неодолимее потребность спать: самый страстный любовник едва ли может пробыть без сна четверо суток; гораздо неодолимее потребности «любить» потребность есть и пить: это истинно безграничная потребность, потому что нет человека, не признающего силы ее, между тем как о любви очень многие не имеют и понятия; из-за этой потребности совершается гораздо больше и гораздо труднейших подвигов, нежели от «всесильного» могущества любви. Почему же мысль о еде и питье не возвышенна, а идея любви возвышенна? Непреоборимость не есть еще возвышенность; безграничность и бесконечность вовсе не связаны с идеею величественного.
Едва ли можно после этого разделять мысль, что «возвышенное есть перевес идеи над формою», или что «сущность возвышенного состоит в пробуждении идеи бесконечного». В чем же состоит она? Очень простое определение возвышенного будет, кажется, вполне обнимать и достаточно объяснять все явления, относящиеся к его области.
«Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами». – «Возвышенный предмет – предмет, много превосходящий своим размером предметы, с которыми сравнивается нами; возвышенно явление, которое гораздо сильнее других явлений, с которыми сравнивается нами».
Монблан и Казбек – величественные горы, потому что гораздо огромнее дюжинных гор и пригорков, которые мы привыкли видеть; «величественный» лес в двадцать раз выше наших яблонь, акаций и в тысячу раз огромнее наших садов и рощ. Волга гораздо шире Твер-Цы или Клязьмы; гладкая площадь моря гораздо обширнее площади прудов и маленьких озер, которые беспрестанно попадаются путешественнику; волны моря гораздо выше волн этих озер, потому буря на море возвышенное явление, хотя бы никому не угрожала опасностью; свирепый ветер во время грозы во сто раз сильнее обыкновенного ветра, шум и рев его гораздо сильнее шума и свиста, производимого обыкновенным крепким ветром; во время грозы гораздо темнее, нежели в обыкновенное время, темнота доходит до черноты; молния ослепительнее всякого света – все это делает грозу возвышенным явлением. Любовь гораздо сильнее наших ежедневных мелочных расчетов и побуждений; гнев, ревность, всякая вообще страсть также гораздо сильнее их – потому страсть возвышенное явление. Юлий Цезарь, Отелло, Дездемона, Офелия – возвышенные личности; потому что Юлий Цезарь как полководец и государственный человек далеко выше всех полководцев и государственных людей своего времени; Отелло любит и ревнует гораздо сильнее дюжинных людей; Дездемона и Офелия любят и страдают с такой полной преданностью, способность к которой найдется далеко не во всякой женщине. «Гораздо больше, гораздо сильнее» – вот отличительная черта возвышенного.
Надобно прибавить, что вместо термина «возвышенное» (das Erhabene) было бы гораздо проще, характеристичнее и лучше говорить «великое» (das Grosse). Юлий Цезарь, Марий не «возвышенные», а «великие» характеры. Нравственная возвышенность – только один частный род величия вообще.
Просмотрев лучше курсы эстетики, легко убедиться, что в нашем кратком обзоре подведены под принимаемое нами понятие возвышенного или великого все его главные видоизменения. Остается показать, как принимаемое нами воззрение на сущность возвышенного относится к подобным мыслям, высказанным в известных ныне курсах эстетики.
О том, что «возвышенность» – следствие превосходства над окружающим, говорится у Канта и вслед за ним у позднейших эстетиков [у Гегеля, у Фишера]: «Мы сравниваем, – говорят они, – возвышенное в пространстве, с окружающими его предметами; для этого на возвышенном предмете должны быть легкие подразделения, дающие возможность, сравнивая, считать, во сколько раз он больше окружающих его предметов, во сколько раз, напр., гора больше дерева, растущего на ней. Счет так длинен, что, не дошедши до конца, мы уже теряемся в нем; окончив его, должны опять начинать, потому что не могли сосчитать, и считаем опять безуспешно. Таким образом, нам кажется, наконец, что гора неизмеримо велика, бесконечно велика». – «Сравнение с окружающими предметами необходимо для того, чтобы предмет казался возвышенным», – мысль очень близкая к принимаемому нами воззрению на основной признак возвышенного. Но обыкновенно она прилагается только к возвышенному в пространстве, между тем как ее должно одинаково проводить по всем родам возвышенного. Обыкновенно говорят: «возвышенное состоит в превозможении идеи над формою, и это превозможение на низших степенях возвышенного узнается сравнением предмета по величине с окружающими предметами»; нам кажется, что должно говорить: «превосходство великого (или возвышенного) над мелким и дюжинным состоит в гораздо большей величине (возвышенное в пространстве или во времени) или в гораздо большей силе (возвышенное сил природы и возвышенное в человеке)». Из второстепенного и частного признака возвышенности сравнение и превосходство по великости должно быть возведено в главную и общую мысль при определении возвышенного.
Таким образом, принимаемое нами понятие возвышенного точно так же относится к обыкновенному определению его, как наше понятие о сущности прекрасного к прежнему взгляду, – в обоих случаях возводится на степень общего и существенного начала то, что прежде считалось частным и второстепенным признаком, было закрываемо от внимания другими понятиями, которые мы отбрасываем как побочные.
Вследствие изменения точки зрения и возвышенное, подобно прекрасному, представляется нам как явление более самостоятельное и, однако же, более близкое человеку, нежели представлялось. С тем вместе наше воззрение на сущность возвышенного признает его фактическую реальность, между тем как обыкновенно полагают, будто бы возвышенное в действительности только кажется возвышенным от вмешательства нашей фантазии, расширяющей до безграничности объем или силу возвышенного предмета или явления. И действительно, если возвышенное существенно есть бесконечное, то возвышенного нет в мире, доступном нашим чувствам и нашему уму.
Но если по определениям прекрасного и возвышенного, нами принимаемым, прекрасному и возвышенному придается (независимость от фантазии, то, с другой стороны, этими определениями выставляется на первый план отношение к человеку вообще и к его понятиям тех предметов и явлений, которые находит человек прекрасными и возвышенными: прекрасное то, в чем мы видим жизнь так, как мы понимаем и желаем ее, как она радует нас; великое то, что гораздо выше предметов, с которыми сравниваем его мы. Из обыкновенных [гегелевских] определений, напротив, по странному противоречию, следует: прекрасное и великое вносятся в действительность человеческим взглядом на вещи, создаются человеком, но не имеют никакой связи с понятиями человека, с его взглядом на вещи. Ясно также, что определениями прекрасного возвышенного, которые кажутся нам справедливыми, разрушается непосредственная связь этих понятий, подчиняемых одно другому определениями: «прекрасное есть равновесие идеи и образа», «возвышенное есть перевес идеи над образом». В самом деле, принимая определение «прекрасное есть жизнь», «возвышенное есть то, что гораздо больше всего близкого или подобного», мы должны будем сказать, что прекрасное и возвышенное – совершенно различные понятия, не подчиненные друг другу и соподчиненные только одному общему понятию, очень далекому от так называемых эстетических понятий: «интересное».
Потому, если эстетика – наука о прекрасном по содержанию, то она не имеет права говорить о возвышенном, как не имеет права говорить о добром, истинном и т. д. Если же понимать под эстетикою науку об искусстве, то, конечно, она должна говорить о возвышенном, потому что возвышенное входит в область искусства.
Но, говоря о возвышенном, до сих пор мы не касались трагического, которое обыкновенно признают высшим, глубочайшим родом возвышенного.
Господствующие ныне в науке понятия о трагическом играют очень важную роль не только в эстетике, но и во многих других науках (напр., в истории), даже сливаются с обиходными понятиями о жизни. Поэтому я считаю неизлишним довольно подробно изложить их, чтобы дать основание своей критике. В изложении буду я строго следовать Фишеру, которого эстетика ныне считается наилучшею в Германии.
«Субъект по своей природе существо деятельное. Действуя, он переносит во внешний мир свою волю и тем самым приходит в столкновение с законом необходимости, владычествующим во внешнем мире. Но действие субъекта необходимо запечатлено индивидуальною ограниченностью и потому нарушает абсолютное единство объективной связи мира. Это оскорбление есть вина (die Schuld) и отзывается в субъекте тем, что, связанный узами единства, внешний мир весь как одно целое взволновывается действием субъекта и чрез это отдельный поступок субъекта влечет за собою необозримый и непредусмотримый ряд последствий, в которых субъект уже не узнает своего поступка и своей воли; тем не менее он должен признавать необходимую связь всех этих последующих явлений со своим поступком и чувствовать себя в ответственности за них. Ответственность за то, чего не хотел и что, однако, сделал он, имеет для субъекта последствием страдание, т. е. выражение противодействия от нарушенного хода вещей во внешнем мире нарушившему их действию. Необходимость этого противодействия и страдания усиливается тем, что угрожаемый субъект предвидит последствия, предвидит зло себе, но подвергается ему через те самые средства, которыми хотел избежать его. Страдание может усилиться до погибели субъекта и его дела. Но дело субъекта погибает только по-видимому, погибает не совершенно: объективный ряд последствий переживает погибель субъекта и, мало-помалу сливаясь с всеобщим единством, очищается от своей индивидуальной ограниченности, полученной от субъекта. Если субъект, погибая, усвояет себе это сознание правдивости своего страдания и того, что дело его не погибает, а очищается и торжествует его погибелью, то примирение полно, и сам субъект просветленным образом переживает себя в своем очищающемся и торжествующем деле. Все это движение называется судьбою, или «трагическим». Трагическое бывает различных родов. Первая форма его та, когда субъект является не фактически, а только в возможности виновным и когда поэтому сила, его губящая, является слепою силою природы, которая на отдельном субъекте, более отличающемся внешним блеском богатства и т. п., нежели внутренними достоинствами, показывает пример, что индивидуальное должно погибнуть потому, что оно индивидуальное. Погибель субъекта исходит здесь не от нравственного закона, а от случая, который, однако, находит себе объяснение и оправдание в примиряющей мысли, что смерть – всеобщая необходимость. В трагическом простой вины (die einfache Schuld) возможность вины переходит в действительную вину. Но вина лежит не в необходимом объективном противоречии, а в какой-нибудь запутанности, связанной с действием субъекта. Вина эта нарушает в чем-нибудь нравственную целость мира. Чрез нее страдают другие субъекты, и так как вина здесь на одной стороне, то сначала кажется, что они страдают невинно. Но в таком случае субъекты были бы чистым объектом для другого субъекта, что противоречит значению субъективности. Потому что они должны открыть в себе слабую сторону какою-нибудь ошибкою, находящеюся в связи с их сильными сторонами, и погибать чрез эту слабую сторону; страдание главного субъекта, как обратная сторона его поступка, истекает силою оскорбленного нравственного порядка из самой вины. Орудием наказания могут быть или оскорбленные субъекты, или сам преступник, сознающий свою вину. Наконец, высшая форма трагического – трагическое нравственного столкновения. Общий нравственный закон дробится на частные требования, которые часто могут находиться в противоположности между собою, так что, удовлетворяя одному, человек необходимо оскорбляет другое. Борьба эта, истекающая из внутренней необходимости, а не из случайностей, может оставаться внутреннею борьбою в сердце одного человека. Такова борьба в сердце Антигоны у Софокла. Но как искусство олицетворяет все в отдельных образах, то обыкновенно борьба двух требований нравственного закона представляется в искусстве борьбою двух лиц. Одно из двух противоречащих стремлений справедливее и потому сильнее другого; оно сначала побеждает все, ему сопротивляющееся, и тем самым становится уже несправедливо, подавляя справедливое право противоположного стремления. Теперь справедливость – на стороне, которая сначала была побеждена, и стремление, в сущности более справедливое, погибает под тяжестью собственной несправедливости от ударов противоположного стремления, которое, будучи оскорблено в своем праве, имеет за собой, в начале противодействия, всю силу истины и справедливости, но, побеждая, впадает само точно таким же образом в несправедливость, влекущую за собой погибель или страдание. Прекрасно весь этот ход трагического развивается в «Юлии Цезаре» Шекспира: Рим стремится к монархической форме правления; представителем этого стремления является Юлий Цезарь; оно справедливее и потому сильнее противоположного направления, стремящегося сохранить издавна установившееся устройство Рима; Юлий Цезарь побеждает Помпея. Но существующее издавна также имеет право существовать [оно разрушается Юлием Цезарем, и оскорбленная им законность восстает против него в лице Брута]. Цезарь погибает; но заговорщики сами мучаются сознанием того, что Цезарь, погибший от них, выше их, и сила, которой он был представителем, воскресает в лице триумвиров. Брут и Кассий погибают; но на гробе Брута Антоний и Октавий высказывают свое сожаление о нем. Так совершается, наконец, примирение противоположных стремлений, из которых каждое и справедливо и несправедливо в своей односторонности, которая постепенно сглаживается падением каждого из них; из борьбы и погибели возникают единство и новая жизнь».