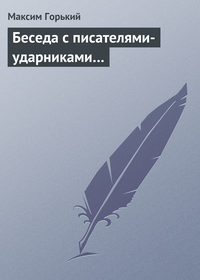полная версия
полная версияПо Руси

Максим Горький
По Руси[1]
Рождение человека[2]
Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря – сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.
Осень. В белой пене Кодера кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и – обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.
Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих – много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползни – гости с далекого севера – клюют их.
Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и ляп можно найти «пьяный мед», который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а «проходящие» люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш – тонкую лепешку из пшеничной муки.
Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искусанный сердитой пчелой, макал куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любуясь ленивой игрою усталого солнца осени.
Осенью на Кавказе – точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы – они же всегда и великие грешники, – построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и все – снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:
– Твое – от Твоих – Тебе.
…Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их – живою тканью многообразных деревьев, и – безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.
Превосходная должность – быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотою!
Ну да – порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это – не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а – не удались людишки…
Разумеется, есть немало и хороших, но – их надобно починить или – лучше – переделать заново.
…Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человечьи голоса – это «голодающие» идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.
Я знаю их – орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.
Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами синевато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж – объелся фруктами. Я жил в бараке среди этих людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастиях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.
Это – скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы – изумив – ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:
– А-яй… экая землища…
– Прямо – прет из нее.
– Н-да-а… а однако – камень ведь…
– Неудобная земля, надобно сказать…
И вспоминали о Кобыльем ложке. Сухом гоне. Мокреньком – о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов и все памятно, знакомо, дорого – орошено их потом.
Была там с ними еще одна баба – высокая, прямая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.
Вечерами она, вместе с этой – в желтом платке, – уходила за барак и, сидя там на груде щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым голосом:
За погостом…во зелены-их куста-ах –На песочку…расстелю я белый плат…Не дождусь ли…дружка милого мово…Придет милый…поклонюся яй ему…Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:
Ой да милый…ой, миленок дорогой…Не судьба мне…боле видетьси с табой…В черной душной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков…
Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента – она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке.
…Ныряя в воздухе, желтая голова исчезла.
Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и, не спеша, двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.
Вот и я на узкой, серой полосе дороги, справа – качается густо-синее море; точно невидимые столяры строгают его тысячами фуганков – белая стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накренясь на левый борт, скользит к Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки – серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо тише – «чише» и «хыть» вместо хоть.
– Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию…
Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.
…Идти – легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе – как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине – спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.
Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны, – кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.
Ветер подул с гор – будет дождь.
…Тихий стон в кустах – человечий стон, всегда родственно встряхивающий душу.
Раздвинув кусты, вижу – опираясь спиною о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые волчьи зубы.
– Что – ударили? – спросил я, наклоняясь к ней, – она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головою, хрипит:
– Уди-и… бесстыжий… ух-ходи…
Я понял, в чем дело, – это я уже видел однажды, – конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завыла, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу.
Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиною на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях – она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:
– Разбойник… дьявол…
Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завыла, судорожно вытягивая ноги.
В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги – у нее уже вышел околоплодный пузырь.
– Лежи, сейчас родишь…
Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и – стал акушером.
Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землею страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка, – я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот…
Мы немножко ругали друг друга, она – сквозь зубы, я – тоже не громко, она – от боли и, должно быть, от стыда, я – от смущения и мучительной жалости к ней…
– Х-хосподи, – хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, все льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое надвое.
– Ух-ходи ты, бес…
Слабыми, вывихнутыми руками она все отталкивает меня, я убедительно говорю:
– Дуреха, роди, знай, скорее…
Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:
– Ну, скорей!
И вот – на руках у меня человек – красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу – он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:
– Я-а… я-а…
Такой скользкий – того и гляди, уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу-очень рад видеть его! И – забыл, что надобно делать…
– Режь… – тихо шепчет мать, – глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:
– Ножиком… перережь…
Нож у меня украли в бараке – я перекусываю пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать – улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем – темная рука шарит по юбке, ища карман, и окровавленные, искусанные губы шелестят:
– Н-не… силушки… тесемочка кармани… перевязать пупочек…
Достал тесемку, перевязал, она – улыбается все ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.
– Оправляйся, а я пойду, вымою его… Она беспокойно бормочет:
– Мотри – тихонечко… мотри же… Этот красный человечище вовсе не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним:
– Я-а… я-а…
– Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут…
Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом, когда я стал нашлепывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, все обливали его.
– Шуми, орловский! Кричи во весь дух…
Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:
– Дай… дай его…
– Подождет.
– Дай-ко…
И дрожащими, неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплому ее телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал.
– Пресвятая, пречистая, – вздрагивая, вздыхала мать и перекатывала растрепанную голову по котомке с боку на бок.
И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза – святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка…
– Слава те, пречистая матерь божия… ох… слава тебе… Глаза угасли, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:
– Развяжи, паренек, котомку мою…
Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто – чуть заметно – румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.
– Отойди-ка…
– Ты очень-то не возись…
– Ну, ну… отойди…
Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо поют какие-то славные птицы, и это – вместе с немолчным плеском моря – так хорошо, что можно бы слушать год…
Где-то недалеко журчит ручей – точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном своем…
Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязанном, как надобно.
– Эй, эй, это ты, брат, рано завозилась!
Придерживаясь рукою за ветку кустарника, она сидела, точно выпитая, без кровинки в сером лице, с огромными синими озерами на месте глаз, и умиленно шептала:
– Гляди – как спит…
Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была разница, так она падала на обстановку: он лежал на куче ярких осенних листьев, под кустом, – какие не растут в Орловской губернии.
– Ты бы, мать, легла…
– Не-е, – сказала она, покачивая головою на развинченной шее, – мне прибираться надобно да идти в энти самые…
– В Очемчиры?
– Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали…
– Да разве ты можешь идти?
– А богородица-то? Пособит…
Ну, уж если она вместе с богородицей, – надо молчать!
Она смотрит под куст на маленькое, недовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового света, облизывает губы и медленным движением руки поглаживает грудь.
Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поставить чайник.
– Сейчас я тебя, мать, чаем угощу…
– О? Напои-ка… ссохлось все в грудях-то у меня…
– Что ж это земляки бросили тебя?
– Они не бросили – зачем! Я сама отстала, а они – выпимши, ну… и хорошо, а то как бы я распросталась при них-то…
Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.
– Первый у тебя?
– Первенькой. А ты – кто?
– Вроде как бы человек…
– Конешно, человек! Женатый?
– Не удостоился…
– Врешь?
– Зачем?
Она опустила глаза, подумала:
– А как же ты бабьи дела знаешь? Теперь – совру. И я сказал:
– Учился этому. Студент – слыхала?
– А как же! У нас у попа сын старшой студент тоже, на попа учится… – Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой… Женщина наклонила голову к сыну, прислушалась – дышит ли? – потом поглядела в сторону моря.
– Помыться бы мне, а вода – незнакомая… Что это за вода? И солена и горька…
– Вот ты ею и помойся – здоровая вода!
– Ой?
– Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь – как лед…
– Тебе – знать…
Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец; маленькая лошадка, вся из сухожилий, прядая ушами, покосилась на нас круглым черным глазом – фыркнула, всадник сторожко взметнул башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону и снова опустил голову.
– Эки люди здесь несуразные да страховидные, – тихо сказала орловка.
Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются осенние листья – чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты – женщина, беспокойно оглядываясь, ползает на коленях по земле, по камням.
– Чего тебе?
Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я – догадался.
– Дай мне, я зарою…
– Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, под полом…
– Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!
– Шутишь ты, а я – боюсь! Вдруг зверь съест… а ведь место надобно земле отдать…
Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:
– Уж ты – получше как, поглубже, Христа ради… жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней…
…Когда я воротился, то увидал, что она идет, шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:
«Эка силища звериная!»
Потом пили чай с медом, и она тихонько спрашивала меня:
– Бросил ученье-то?
– Бросил.
– Пропился, что ли?
– Окончательно пропился, мать!
– Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме приметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалося мне – видно, мол, пропойца, бесстрашный такой…
И, вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, все косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.
– Как-то он поживет? – вздохнув, сказала она, – оглядывая меня. – Помог ты мне – спасибо… а хорошо ли это для него, и – не знаю уж…
Напилась чаю, поела, перекрестилась, и, пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.
– Неужто – идешь?
– Иду.
– Ой, мать, гляди!
– А богородица-то?.. Дай-ко мне его!
– Я его понесу…
Поспорили, она уступила, и – пошли, плечо в плечо друг с другом.
– Кабы мне не трюхнуться, – сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.
Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.
Шли – тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына – глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.
Однажды, остановясь, она сказала:
– Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все – шла, все бы шла, до самого aж до краю света, а он бы, сынок, – рос да все бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя…
…Море шумит, шумит…
1912 г.Ледоход[3]
На реке, против города, семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо.
Весна запоздала в том году – юный молодец Март смотрел Октябрем; лишь около полуден – да и то не каждый день – в небе, затканном тучами, являлось белое – по-зимнему – солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю неприветливо и косо.
Уже была пятница страстной недели, а капель к ночи намерзала синими сосулями в пол-аршина длиною; лед на реке, оголенной от снега, тоже был синеватый, как зимние облака.
Работали плотники – а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в сероватой мгле, обнявшей город, и часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон.
Там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду; они поднимались вверх, точно руки утопающего, изломанные судорогами.
Томительной скукой веет от реки: пустынная, прикрытая ноздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой во мглистую область, откуда уныло и лениво дышит сырой, холодный ветер.
…Староста Осип, чистенький и складный мужичок, с правильной серебряной бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на розовых щеках и гибкой шее, – всегда и всюду заметный, староста Осип покрикивает:
– Шевелись поживей, курицыны дети!
И обращается ко мне, насмешливо внушая:
– Наблюдающий, – ты чего в небе ковыряешь тупым твоим носом? Ты для какого дела приставлен, спросить тебя? Ты – от подрядчика, от Василь Сергеича? Стало быть – подобат тебе наяривать нас – работай живо, такой-сякой народ! Вот для какого подвигу ты налажен, а ты – на свое дело моргаешь, дите мое, горький сухостой! Моргать тебе не положено, ты гляди в оба да покрикивай, коли тебя вроде десятника до нас приспособили… ты – командуй, кукушкино яичко!
Он снова кричит на ребят:
– Не зевай! Лешие, – надобно сегодня конец делу положить, али нет?
Сам он – первейший лентяй артели. Превосходно знает свое дело, умеет работать ловко, споро, со вкусом и увлечением, но – не любит утруждать себя и постоянно рассказывает волшебные истории. Как раз в разгар работы, когда люди вопьются в нее и работают молча, сосредоточенно, вдруг плененные желанием сделать всё ладно и гладко, – Осип заводит журчащим голоском:
– А вот, братцы мои, был случай…
Две-три минуты люди как будто не слушают его, самозабвенно тешут, строгают, рубят, а мягонький тенорок мечтательно течет и вьется, опутывая, связывая внимание людей. Голубые ясные глаза Осипа сладко прищурены, он покручивает пальцами курчавую бородку и, чмокая от удовольствия, нижет слово за словом…
– Поймал он этого линя, положил в пещер, идет лесом – думает: «А и будет же уха у меня…» Только вдруг – не знай откуда – кричит голос женской, тонкой: «Елеся-а, Елеся-а…»
Длинный костлявый мордвин Ленька, по прозвищу Народец, – молодой парень с маленькими изумленными глазками, – опустил топор и стоит, открыв рот.
– А из пещера отвечают басищем, густо: «Зде-ся-а!..» И в тую самую минуту крышка с пещера – хло-бысь, линь оттедова – прыг и пошел, пошел назад, в омут свой…
Старик-солдат Санявин, угрюмый пьяница, страдающий одышкой и давно чем-то обиженный на всю жизнь, хрипит:
– Как это он, линь, пошел посуху, ежели он – рыба?
– А говорить рыбе назначено? – ласковенько спрашивает Осип.
Мокей Будырин, мужик серый, с собачьим лицом – скулы и челюсти выдвинуты вперед, а лоб запрокинут, – человек молчаливый и неприметный, не торопясь, выпускает через нос три любимые свои слова:
– Это совсем верно…
Каждый раз, когда рассказывают что-нибудь чудесное, страшное, грязное или злое, – он негромко, но непоколебимо уверенно отзывается:
– Это совсем верно…
И словно трижды бьет меня в грудь жестким тяжелым кулаком.
Работа встала, потому что Яков Боев, косноязычный и кособокий, тоже хочет рассказать что-то рыбье и уже начал, но ему никто не верит, смеются над его измятою речью; он – божится, ругается, сердито сует долотом в воздух и, захлебываясь злой слюною, кричит, на смех всем:
– Один – чего ни ври – принимают, а как я вам – правду, – ржете, галманы, пострели вас в душу…
Все бросили работу и шумят, размахивая пустыми руками; тогда – Осип снимает шапку, обнажая благообразную серебряную голову, с плешью на темени, и строго кричит:
– Будя, эй! Позвонили, отдохнули, и – ладно!
– Сам завел, – хрипит солдат, поплевывая на ладони.
Осип пристает ко мне:
– Наблюдающий-и…
Мне кажется, что он сбивает людей с работы своими россказнями, имея какую-то цель, но я не понимаю – хочет ли он болтовней прикрыть свою лень или дать людям отдых? Перед подрядчиком Осип держится льстиво, низкопоклонно, – «ломает дурака» перед ним и каждую субботу умеет выклянчить у него «на чаишко» для артели.
Вообще он человек «артельный», но старики его не любят, считают шутом, бездельником и относятся к нему неуважительно, да и молодежь, любя слушать его болтовню, смотрит на него несерьезно, с недоверием, плохо скрытым и часто злым.
Мордвин, парень грамотный, с которым я говорю иногда «по душам», однажды, на мой вопрос – что за человек Осип, сказал, усмехаясь:
– Не знай… пес его знает… так себе – ничего…
И, подумав, добавил:
– Михайло, который помер, резкий был мужик, умный, – так он раз лаялся с им, с Осипом-то, да и говорит: «Али, говорит, ты человек? Работник в тебе подох, а хозяин – не родился, так, говорит, ты и будешь всю жизнь болтаться на углу, как забытый отвес на нитке»… Вот это, поди-ка, верно про него…
И еще подумав, мордвин беспокойно договорил:
– А так он ничего, добрый человек…
У меня глупейшая позиция среди этих людей: пятнадцатилетний парень, я приставлен подрядчиком – записывать расход материала, следить, чтобы плотники не воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди они воруют, нимало не стесняясь моим присутствием, и все усердно показывают мне, что я на работе среди них – человек лишний, неприятный И если кому-нибудь представляется случай незаметно задеть меня доскою или иным способом причинить мне маленькую обиду – они это делают очень умело.
Мне с ними неловко, стыдно; я хочу сказать им что-то, что помирило бы их со мною, но не нахожу нужных слов, и меня давит угрюмое чувство моей ненужности.
Каждый раз, когда я записываю в книжку количество взятого материала, – Осип, не торопясь, подходит и спрашивает:
– Нарисовал? Ну-кось, покажь…
Смотрит на запись прищуря глаза и говорит неопределенно:
– Мелко пишешь…
Он умеет читать только по печатному, пишет тоже печатными буквами церковного устава – гражданская пропись непонятна ему.