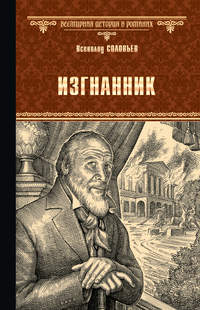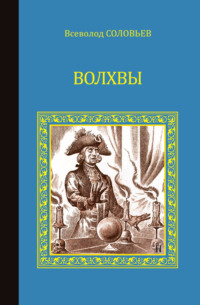полная версия
полная версияСтарый дом
Может быть, она и права, пожалуй, оно и верно, что теперь у него еще больше обязанностей относительно нее. Но все же ее план казался ему трудно исполнимым. Она проговорила:
– Я вижу – вы сомневаетесь, но это все равно, мне вовсе не надо убеждать вас. Я позвала вас для того, чтобы вы мне обещали помочь уговорить его. Он сегодня у вас будет, конечно, вы ничего не скажете ему о нашем свидании. Он будет говорить вам про мою болезнь, про решение ехать за границу, про мое желание, чтобы он ехал со мною. Убеждайте его, сколько можете, что он должен ехать. Вот в чем моя просьба. Поможете… обещаете?
– Конечно… и от всего сердца.
– Вот и спасибо, мне больше ничего не нужно. Сегодня же мы увидим, кто из на прав, – вы или я…
Борис не стал у нее засиживаться. Она боялась, что вот, того и гляди, приедет Вельский, а они ни под каким видом не должны были встретиться…
Как сказала Софья Ивановна, так и случилось. Когда Борис вечером возвратился от своей невесты – оказалось, что уже часа два его дожидается Вельский.
– Что с тобой? – спрашивал Борис, здороваясь с приятелем, на которого просто жалко было глядеть, – так он был бледен и такое отчаяние изображалось на лице его.
– Что со мною? Большое горе, такое горе, что уж я не знаю, как быть! Голова идет кругом. Она больна, очень больна! – глухо договорил он.
– Послушай, мой друг, ты, может быть, преувеличиваешь? – сказал Борис.
Вельский покачал головой.
– Ах, если бы я преувеличивал! Да нет… нет, и вот уж не ждал! И где были мои глаза, о чем я думал? Вот уже два месяца, пожалуй, и еще того больше, как я стал замечать в ней перемену. Но она от меня все скрывала… Спрашиваю, что с нею, не больна ли? Она отвечает: нет, здорова… Я успокаивался. Вдруг сегодня застаю в самом ужасном припадке. Боже, я думал, что она тут же умрет… и только теперь я узнал правду. Она больна давно…
– Какая же у нее болезнь?
– Ах, разве когда-нибудь поймешь этих докторов! Почем я знаю, что такое. Он мне говорил, да я был в таком состоянии, что ничего и не понял.
– Кто ее лечит?
– Петерс. Ведь это опытный, известный врач; он, говорят, никогда не ошибается.
– Да, конечно, если он говорит «серьезно», значит, серьезно! – сказал Борис.
– Вот видишь! – отчаянно воскликнул Вельский. – И он говорит, что для нее единственное спасение – немедленная, слышишь, немедленная перемена климата, горный воздух, непременно горный воздух, что если здесь она пробудет недели две-три – тогда он не ручается за ее жизнь! Подумай – каково мне было это слышать! Что же теперь делать?
– Что? Конечно, немедленно ей уезжать туда, куда посоветует Петерс. Он говорил – горный воздух, ну, значит – в Швейцарию…
– Да, он так и назначил Швейцарию. Он прибавляет, что она должна быть спокойна, что только при душевном спокойствии ее может спасти горный воздух…
– Это само собой! – убежденным тоном проговорил Борис.
Вельский схватился за голову.
– Она без меня не хочет ехать! – простонал он. – Она без меня не двинется с места.
– Значит, ты должен с нею ехать.
– Да пойми же, я не могу, именно теперь не могу ни под каким видом уехать отсюда!
– Петерс хороший доктор, но он может ошибаться, как всякий человек, может быть, она и выздоровеет! – с видимой простотой заметил Борис и в то же время пристально глядел на своего друга.
Вельский как сумасшедший заметался по комнате.
– А если нет? – наконец выговорил он. – Петерс уверяет, что болезнь так запущена, что нельзя медлить ни минуты…
– В таком случае ты должен решить то или другое.
Вельский остановился с потухшим взглядом, с помертвелым лицом. Он, видимо, так страдал, что Борису стало его жаль, и в то же время он видел, что план Софьи Ивановны удачен и что она победит и спасет его.
– Это хуже смерти! – повторил Вельский. – Пусть Петерс ошибается, но он говорит… довольно этого – я не могу ее оставить здесь… я не могу допустить, чтобы она ехала одна, не могу, если бы даже она сама этого хотела… и я уеду теперь… теперь, когда…
– Да разве твое отсутствие может что-нибудь изменить, может принести какой-нибудь существенный вред? Разве без тебя никак уже не могут обойтись?
– Конечно, могут, что же я один, я… – шептал Вельский. – Но они обвинят меня в малодушии, в трусости, в измене делу…
– Никто не обвинит тебя, а если бы даже и обвинили, но если ты чувствуешь сам, что обвинение это несправедливо, какое тебе дело?.. Если ты серьезно любишь эту женщину, ты должен спасти ее, ты должен теперь забыть все остальное…
Вельский крепко сжал руку Бориса.
– Это твой взгляд? Ты думаешь, что я имею право?
– Как же я могу думать иначе!
Вельский молчал несколько мгновений и, наконец, глухо прошептал:
– Я еду…
Выходя от Бориса, он шатался, но по лицу его видно было, что решимость его не поколеблется.
При связях и средствах Вельского ему нетрудно было немедленно устроить сию поездку и получить заграничный паспорт.
Через три дня Борис провожал уже его и Софью Ивановну за границу. Она имела очень страдающий вид и безукоризненно играла свою роль. При прощании она крепко стиснула руку Бориса и он столько прочел в ее взгляде, что сразу понял, какая сила заключается в этой женщине и почему Вельский так ее любит.
XXI. Что выйдет?
По Петербургу прошел тревожный слух о том, что государь серьезно болен. Получено известие из Таганрога. Но что и как, какая это болезнь – никто не знает. Одно несомненно – болезнь нешуточная. Все чувствовали это, почему, по каким признакам, – неизвестно, но чувствовали.
Горе стояло в воздухе, всем становилось душно как перед грозой… А между тем, еще несколько дней тому назад ожидали совсем не этого: больною и безнадежно больною уезжала государыня. Государь был здоров. Еще недавно приходили известия об его интересном путешествии по югу России и Крыму… И вдруг…
Начинали вспоминать люди близкие ко двору, а от них узнавали и остальные, о странном состоянии духа, в котором находился государь перед отъездом. У него было предчувствие…
Но неужели оно, действительно, не обмануло? Нет, это невозможно… не дай Бог… не дай Бог! И тут становилось ясно, как любим государь, даже теми, кто в последние годы выказывал большое недовольство. Он был, действительно, любим, этот человек, соединявший в себе обаятельную, почти женственную прелесть и царственное величие.
Уже несколько дней доброго государя не было на свете, но Петербург еще не знал этого. 26 ноября приехал курьер из Таганрога и привез известие, что больному лучше и что есть надежда на выздоровление. Народ толпами стекался в церкви, где служились заздравные молебны. Встречали друг друга доброй вестью. Говорили:
«Ну, слава Богу, слава Богу!.. Авось Господь не попустит такого несчастья!..»
Но прошли сутки – и печальный звон колоколов своими унылыми, за душу хватающими звуками стал призывать к иной молитве. Надежда обманула.
Весть о жончине государя, особенно после утешительного известия, полученного накануне, поразила всех и долго никто не мог прийти в себя и сообразить – как же теперь будет и что будет?
Всюду толковали только о болезни государя, о его последних днях, минутах… Стало известно письмо больной государыни Елизаветы императрице Марии Феодоровне, начинавшееся безнадежной, полной душевной муки и невольного изумления фразой: «Наш Ангел на небесах, а я еще влачу жизнь на земле…»
У всех ювелиров появились траурные кольца с надписью: «Наш Ангел на небесах» – и покупались нарасхват. Едва успевали исполнять заказы. И на этот раз это не была мода – всеобщее горе было чересчур искренно…
В один из этих мрачных, печальных дней в тихом кабинете Бориса шел горячий разговор между братьями. Но предметом их разговора было не общественное горе и не семейные обстоятельства, не ужасная история Катрин. Об этой измучившей его истории Борис ни словом не намекал Владимиру. Он не знал, чем кончилось его объяснение с женой, на чем они порешили, что будет. Он решил, что не имеет больше права сам заговаривать обо всем этом с Владимиром. Он исполнил свою тяжелую обязанность – открыл ему глаза, а затем должен отстраниться. Если брат призовет его на помощь, тогда дело другое. Теперь неожиданно по поводу брата у него оказалась еще новая тревога: он узнал от некоторых членов «общества», которые испробовали последнее средство, чтобы привлечь его, что его брат Владимир находится в числе членов «общества» и даже, как его уверяли, в числе деятельных членов. Ему сказали об этом именно с целью заставить его решиться, а может быть, кто знает, и с целью гарантировать себе окончательно его молчание. Ему доверяли, в него верили, но ведь тут такое дело! Надо быть более чем осторожными.
Сначала Борис не хотел даже верить в участие брата. «Он, Владимир – член тайного общества! Он – заговорщик! С его взглядами на жизнь, на обязанности гражданина, на службу – да ведь этого быть не может!..» – думал Борис. Несмотря на то, что он никак не мог одобрить деятельности общества, но все же ему, пожалуй, и приятно было бы узнать, что Владимир принадлежит к нему; пусть это заблуждение, опасное и вредное заблуждение, но все же оно гораздо лучше многого того, что ему приходилось слушать от брата. Да, он был бы рад, если бы ошибся в брате. Но он чувствовал, что ошибаться в нем не может, и потому ему так трудно было поверить…
А между тем как же и не верить?!. Нужно поговорить с ним, нужно узнать истину, что все это значит!.. Томительное предчувствие, совсем еще неопределенное, неясное, уже начинало закрадываться в душу Бориса. И вот теперь он говорил с братом, он сразу увидел, что поразил его своим вопросом:
– Тебе сказали? – растерянно прошептал Владимир, даже меняясь в лице.
Но он сейчас же и справился с волнением.
– Что же, – продолжал он, – если тебе известно – я отпираться не стану. Да, я бываю на их собраниях, я знаю их планы…
– Ты, значит, заодно с ними, Владимир? И вот этому-то мне трудно поверить, – сказал Борис.
– Да тебе и не следует верить этому. Если я у них бываю, если я посвящен в их дело – одно это еще ничего не доказывает…
– Мне кажется, это доказывает все! – нетвердо проговорил Борис.
– Но ведь вот и тебе многое известно?
– Да, к сожалению; и я скажу тебе, что это крайне меня мучает. Сначала я предполагал совсем другое, но, увидя, как у них поставлено дело, прямо объявил всем, что не сочувствую их образу действий и не могу иметь ничего общего с ними. У меня остались только личные отношения к некоторым из этих людей. Спроси их – все они тебе это скажут. А ведь на тебя указывают как на деятельного члена общества, ты бываешь на заседаниях. Ты с ними не споришь – значит, вы заодно!
Владимир поморщился.
– Ничего это еще не значит, – проговорил он, очевидно, не зная, как выпутаться из этого нежданного для него разговора, к которому он совсем не был приготовлен.
Вообще, в эти последние дни Владимир был очень собою недоволен – он понял, что поторопился с «обществом» и начинал не на шутку бояться быть скомпрометированным. Дело в том, что, ближе познакомившись с деятельностью «общества», он разочаровался в его силах, перестал верить в успех. Всех искренних «членов» возбуждала и поддерживала именно их искренность, фанатический экстаз, в каком они находились. Во Владимире ничего подобного не было, а потому он мог рассуждать хладнокровнее и видеть яснее. С другой стороны, недовольство и злое чувство от служебной неудачи, заставившие его ухватиться за «общество», прошли: обстоятельства неожиданно изменились, и он не сегодня завтра должен был получить назначение еще даже лучшее, чем то, которым «обошли» его.
Он раздумывал: доносить или нет, и как бы вообще выйти сухим из воды… А тут вдруг Борис со своими дикими взглядами!.. Ведь может повредить!.. И как это было не разузнать заранее, причем тут Борис, как было не догадаться, что такой «фантазер» так или иначе, а должен был иметь соприкосновение к «обществу»?!.
Борис между тем ждал объяснений и изумленно глядел на него. Неловкое молчание продолжалось. Наконец Борис проговорил:
– Я ничего не понимаю! Если ты не с ними – какая же цель?
– А у тебя какая?
– У меня? Да ведь я там не бываю, я всего раз, тотчас после моего возвращения из-за границы, был на их собрании и, убедясь, что не могу примкнуть к ним, ни разу с тех пор не бывал там… Я говорил с тех пор только с отдельными лицами и то потому только, что они сами говорить начинали… и еще – я даже и не говорил, а спорил, доказывал, что им остается единственное – отказаться от всех этих опасных и неисполнимых планов.
– Ты считаешь их неисполнимыми?
– Да! – твердо ответил Борис. – Да, и если бы они чего-нибудь добились, какого-нибудь успеха, я думаю, что во всяком случае зла выйдет больше, чем добра. Но нам нечего и говорить об этом! – раздраженно докончил он.
– Зачем же ты начал? – спросил Владимир.
– Зачем? Да неужели ты не понимаешь, что так я не могу оставить. Если я не могу быть равнодушным к судьбе этих людей, из которых многих даже очень мало знаю, то к твоей судьбе, кажется, тем более уж не могу быть равнодушным!.. И я требую, да, требую от тебя, как от брата, прямого и окончательного ответа – с ними ты или нет?
Владимир несколько раз прошелся по комнате. Он решительно не был приготовлен к этому объяснению и между тем чувствовал, что брат имеет право так говорить, как говорит, и что он ему должен ответить.
– Борис, – сказал он наконец, – ты требуешь от меня откровенности, – хорошо, я буду откровенен с тобою… Но прежде всего дай мне честное слово, что все это останется между нами.
– Я полагаю, что ты мог бы обойтись без этой оговорки! – с невольным укором сказал Борис.
– Ну, хорошо, конечно, я тебя знаю, – поспешно перебил Владимир, чувствуя все большую и большую неловкость. – Ты спрашиваешь: с ними ли я? Нет, не с ними!.. Я… я так же, как и ты, убедился, что они заблуждаются… я не могу одобрить их планов!..
– Так пойди и скажи им это, и скажи скорее, чтобы они знали, чтобы не считали тебя в числе своих, как теперь считают. Скажи скорее, чтобы иметь возможность уйти… Ты, верно, даже не подумал о том чем рискуешь!.. Ты можешь погубить себя… Боюсь, что и теперь поздно, что ты уже скомпрометирован.
Владимир качал головою и в то же время думал: «А ведь он глядит на дело, кажется, как следует!.. Он сейчас захочет выручать… что ж, пусть… может быть, и выручит!..»
– Если я не разделяю их взглядов, то всегда имею способ оправдать себя, – сказал он.
– Как же это ты оправдаешься, если у них против тебя доказательства, и эти доказательства окажутся в руках власти? Что ты ответишь, когда у тебя спросят: зачем же ты, обо всем зная и принимая участие во всех совещаниях, не донес своевременно о том кому следует?
– Время еще не ушло! – вдруг вырвалось у Владимира.
– Как?.. Что?.. Что ты сказал?.. – с ужасом прошептал Борис, ясно, наконец, понимая теперь, какое это предчувствие у него было, и видя, что это предчувствие оправдывается. – Ты хочешь их выдать, донести на них?
– Я ничего не хочу, – мрачно проговорил Владимир. – Но послушай, однако, что такое значит – выдавать, доносить?.. Если действия известных людей я признаю вредными, тогда я обязан довести о них до сведения правительства, которому служу…
Борис, в свою очередь, почувствовал себя смущенным.
– Да тут опять противоречие, – грустно проговорил он, – одно из тех противоречий, каких много бывает в жизни! Но все же выход есть, да, есть прямой выход! – оживился он. – Ты не так поставил вопрос!.. Если я искренно служу какому-нибудь делу – я обязан оберегать его интересы, я обязан защищать это дело от его врагов, воевать с этими врагами. Но тут не то… и ты сам это знаешь… Ты мог им сказать: не говорите мне ничего, потому что если я что-нибудь узнаю, то стану вашим врагом. А ты разве так поступил? Ты пошел к ним как друг, да, ведь и многие из них старые наши друзья и товарищи, они нас любят и верят нам. Ты пошел к ним, ты заставил их признать в тебе соучастника, они были беззащитны перед тобою – и ты… ты станешь убивать их сонными!.. Нет, Владимир, нет, ты не сделаешь этого, ты не опозоришь нашего имени!
Владимир совсем закрыл глаза и кусал губы от злости. «Вот привязался! – думал он. – И я тоже какого дурака разыграл!»
– Ах, да успокойся, ничего я не сделаю! – наконец громко сказал он и хотел выйти.
Но Борис остановил его.
– Брат, брат! – повторял он дрожащим от волнения голосом. – Посмотри на меня, не уходи так, я должен быть уверенным… ты не знаешь, как это мне нужно!..
– Так ты мне все же не веришь? – сказал Владимир, пожимая плечами. – И ты сам не знаешь, чего хочешь и чего от меня требуешь…
Но вдруг он остановился. Очевидно, новая мысль мелькнула у него.
– Хорошо, – прибавил он, – для того, чтобы тебя успокоить, я принесу тебе и отдам на хранение все документы, какие у меня есть, одним словом, все то, что могло бы погубить их… да и меня, как ты полагаешь…
Он быстро вышел, пошел к себе в кабинет, вынул из стола портфель с бумагами, проглядел эти бумаги и вернулся с портфелем к Борису. Но Бориса не было в комнате. Вместо него Владимир увидел Степана, что-то прибиравшего.
– Где Борис Сергеевич? – по своему обыкновению резко спросил Владимир.
– Сейчас здесь были – в спальне они, надо полагать…
Владимир прошел с портфелем, и Степан расслышал, как он говорил в соседней комнате:
– Вот, бери и успокойся, тут все – у меня больше ничего нет. Пусть какой угодно обыск сделают – ничего не найдут… Рассмотри эти бумаги и посоветуй, как мне быть…
Степан очень изумился, услыша слова эти. Он видел, в каком волнении был за минуту перед тем Борис Сергеевич, видел, что и Владимир Сергеевич какой-то особенный.
«Неладное что-то творится, – думал он, – а что такое – и понять невозможно. Давно в доме неладно… И все хуже, да хуже… Господи, чего ждать-то?» Он горько задумался. Он понимал и видел одно, что Владимир Сергеевич и Катерина Михайловна что-то мудрят и чем-то досаждают его барину. Он ненавидел их за это от всего сердца и даже не считал такое чувство греховным.
XXII. Недоразумение
Борис ничего не успел посоветовать Владимиру. В течение нескольких дней они совсем даже не видались, да и не видали никого из «членов общества».
Между тем события шли быстро. Происходила известная борьба великодушия между великими князьями Константином и Николаем. Великий князь Николай, а за ним и Петербург, присягали новому императору – Константину. Цесаревич Константин в Варшаве отказывался от престола и присягал императору Николаю.
Начиналось смущение. Весьма многим было хорошо известно, что между покойным государем и цесаревичем было заранее решено, что царствовать должен Николай. Но молодой великий князь все же признавал права старшего брата, да и к тому же, несмотря на все свои нравственные силы, он остановился в невольном трепете перед великим бременем царской власти и царских обязанностей. Он думал прежде всего об этих обязанностях и испытывал благородное смирение, недоверие к себе, указывавшие на всю глубину его натуры…
Он решился прибегнуть к последнему средству – просил младшего брата, великого князя Михаила, съездить к цесаревичу за окончательным решением. Великий князь Михаил поспешно уехал. Все хорошо сознавали, что с таким делом невозможно медлить и минуты…
Хорошо сознавали это и заговорщики и решили воспользоваться междуцарствием для своих целей. Когда было получено окончательное отречение от престола цесаревича Константина и войска приводились к присяге императору Николаю, некоторые из офицеров, бывшие членами «общества», стали убеждать солдат, чтобы они не изменяли священной присяге, уже данной ими «императору Константину».
Решились на возмутительный обман и вели честных русских солдат на бунт – во имя законности и верности долгу присяги. Таков ловкий и легкий по обстоятельствам обман должен был удасться. Некоторые полки поддались ему, произошло грустное и ужасное недоразумение. Обманутые бутовщики стояли перед своими необманутыми собратьями – искренно считая себя исполнителями долга, а тех – бунтовщиками, готовые пролить кровь свою…
Заговорщики бегали между ними, возбуждая их горячими речами и в своей фанатической экзальтации даже не понимая, какую позорную роль они играют, не задумываясь о том, что вся кровь обманутых, неповинных людей ляжет на их совесть и будет смыта только их собственной кровью… Да и будет ли еще смыта?..
Темный народ был в изумлении и ужасе, не понимал, что такое происходит, на чьей стороне правда…
Мало-помалу вся эта многотысячная толпа начала проявлять инстинкты бессмысленного стада и, как всегда бывает в таких случаях, свирепела с каждой минутой. Эти люди, в большинстве своем кроткие и послушные, теперь не были способны поддаться никаким увещеваниям. По-видимому, для них не существовало никакой сдерживающей силы.
Старец митрополит, пробовавший говорить, должен был удалиться, не добившись ничего. Любимец солдат и народа, всеми чтимый герой, Милорадович, один мог иметь успех. Его горячие простые слова начали уже производить действие… Заговорщики поняли, до какой степени этот старик им теперь опасен… Один из них пробрался к нему и, не задумываясь, спустил курок. Герой упал, смертельно раненный, обливаясь кровью… Послышались выстрелы… Площадь дрогнула… Все смешалось… Все слилось в адском гуле… Теперь это были уже настоящие дикие звери, почуявшие кровь…
И вдруг нашлась высшая сила. Молодой царь, не помышляя об опасности, полный вдохновения, появился среди толпы, обвел ее своим властным, орлиным взглядом… Могучий голос возвысился надо всеми беспорядочными звуками…
Миг – и толпа стихла… Народ расходился… Мысли прояснились – все поняли, в чем дело, недоразумение окончилось…
Еще рано утром Борис Горбатов узнал, что перед дворцом и на Сенатской площади происходят беспорядки. Он понял, в чем дело, и, не задумываясь, движимый невольным чувством, поспешил из дому и пробрался на площадь. Убедиться, что его предположения безошибочны, ему было легко: он заметил между солдатами «членов общества». Ему даже шепнули:
«Хорошо, что хоть в последнюю минуту вы с нами!»
Но он начал горячо уговаривать их «хоть в последнюю минуту» одуматься и исправить то, что еще можно.
Конечно, на слова его не обратили никакого внимания, и он скоро убедился в своем бессилии. Он остался, с тоскою в сердце, зрителем происходящего, надеясь, что по крайней мере ему удастся хоть в чем-нибудь и кому-нибудь помочь. Ему это удалось, действительно, когда появились раненые…
Однако его присутствие в толпе заговорщиков было заметно…
Борис возвратился домой, шатаясь от усталости, измученный и отуманенный всеми впечатлениями этого страшного дня. Он испытывал большую тяжесть, давящий гнет на сердце, вся душа его тоскливо ныла. Он не мог себя считать ни в чем виновным. Ведь не в его власти было предупредить хоть что-нибудь, хоть что-нибудь остановить. И потом – все это совершилось до такой степени неожиданно, что он был захвачен совсем врасплох. Но все же, несмотря на это сознание, в нем поднималось что-то томительное и давящее, как будто упрек совести, – и он никак этого не мог победить в себе.
Он прошел в свой кабинет, не спрашивая, дома ли кто-нибудь: ему тяжело было теперь встретиться с кем бы то ни было из домашних. Он опустился в кресло совсем обессиленный, велел Степану зажечь лампу и погрузился в полудремоту.
Рядом с ним, на его огромном письменном столе, лежал запертый портфель, оставленный братом. Он взглянул на этот портфель машинально и не остановил на нем своей мысли. Он подумал о брате и изумился, как это не вспомнил о нем до сих пор. Изумился, что весь день не видел его нигде. Где же он был все это время, что с ним, неужели он схвачен?..
Он изо всей силы дернул сонетку. Прибежал Степан.
– Дома Владимир Сергеевич?
– Никак нет, еще не бывали.
Он взглянул на часы – уже поздно – полночь скоро… Прошло еще несколько минут. К нему вошла мать; лицо ее было бледно, встревожено.
– Что с тобою? – кинулась она к нему. – Я только сейчас узнала, что ты вернулся… зачем ты не зашел ко мне? Я так мучилась, не зная, где ты, отец тоже… Говори же, что там такое?!. Ведь мы почти ничего не знаем, весь день не выходили… Кончилось ли, по крайней мере?
– Кончилось, maman, кажется, все кончилось! – глухо прошептал Борис. – Простите – я не зашел… я так устал… Я не в силах просто подняться… Сейчас лягу и постараюсь уснуть… Завтра утром все расскажу, все… а теперь… не могу…
Язык его просто не слушался.
– Ну, Христос с тобою… спи!.. Она перекрестила его, поцеловала.
– А Владимира все нет, – прибавила она, – ты не видел его?
У него так и замерло сердце.
– Не видал, верно, он скоро вернется.
Она вышла. Он опять крикнул Степана и приказал ему, как только вернется Владимир Сергеевич, тотчас же прийти и сказать.