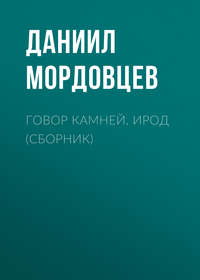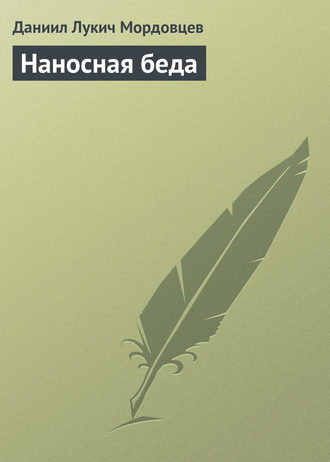 полная версия
полная версияНаносная беда
– Верно, опять на этой войне. Господи! Когда она кончится! заключила она со вздохом. – А скоро опять весна начнется, скоро сирень зацветет. (В прозрачных глазах ее ясно отразились темные «сенцы».) А ты, Ларочка, давно получала от Александра?
Лариса сидела как мраморная, опустив глаза и о чем-то думая. Какою детскою наивностью звучали для нее слова ее подруги! Как она сама выросла за эти месяцы, ох, как выросла! До могилы доросла…
– Давно, Лара?
– На святки, – чуть слышно отвечала Лариса.
– Что же он пишет? Скоро приедет?
– Нет, он никогда уже не приедет.
– Как! Отчего, Ларочка?
– Вместо себя он прислал локон своих волос.
– Вот какой! Но и это, душечка, хорошо. А у меня и локона его нет. Хоть я знаю, что он любит меня, но он еще ни слова не сказал мне об этом. Он такой застенчивый. А твой отчего же не едет? Не пускают?
– Он умер, Настя.
Сначала Настя как будто не поняла своей подруги. Она думала, что ослышалась, что та шутит. Но когда увидела, что Лариса сидит бледная, как потемневший мрамор, и из-под опущенных ее ресниц выкатились две слезы, тут только рассмотрела она перемену, происшедшую в ее друге с тех пор, как девушки не видались. Настя сама побледнела, ее живое личико отразило на себе и страшный испуг и глубокое горе… Она подошла к склоненной голове Ларисы, тихо взяла ее в свои руки и, припав к этой черной, скорбной головке, только заплакала, не находя слов для утешения. Да и какое тут утешение в то время, когда больше чем руку отпиливают!
Молча они плакали обе. Наплакались вдоволь.
– Что же? Как же теперь? – не знала что спросить распухшая от слез Настя, когда слезы были выплаканы.
– Не воротишь уже, – тихо отвечала Лариса покорным голосом.
– Да, не воротишь. Боже, Боже!
– Но я… надумала, – еще тише сказала Лариса.
– Что, душечка? – встрепенулась Настя.
– Я хочу видеть его могилу.
– А где она?
– Не знаю, в Турции где-то…
– Да как же ты найдешь ее, милая?
– Я разузнаю от Крестьяна Крестьяныча, он хоронил его.
– Он! А он здесь?
– Здесь… кланяется тебе.
Лариса замолчала. Подруга не узнавала ее. И прежде Лариса была много серьезнее ее, характерная такая, а теперь в ее словах, в ее голосе слышалась какая-то упрямая уверенность и твердость.
– Как же ты, душечка, попадешь в Турцию? – спросила Настя, хотя и верившая всегда в Лару, что та даром слов не говорит, но тут и она не знала, что думать. Турция далеко…
– Меня повезут туда! – спокойно отвечала Лариса.
– Кто же, милая, повезет-то? Твой папаша?
– Нет, вот что, Настя. При армии, за больными и ранеными ходят иногда монахини и другие женщины. Я сделаюсь сиделкой. Я уже об этом думала. Туда принимают только тех, которые уже сиживали в гошпиталях. Я поступлю здесь в главную сухопутную гошпиталь, где Саня учится, и там научусь ходить за больными. Теперь уже у нас нужны сиделки: вон что начинается в Москве! Меня примут. А там я попрошусь в армию. А тут я теперь не жилица на белом свете!
Последние слова были сказаны с горечью и силой. Настя сидела не шевелясь, вся пунцовая, она тоже забирала себе что-то в голову.
– Так и я с тобой, Ларочка, пойду, – сказала она нерешительно. Возьмешь меня?
Лара молча и серьезно посмотрела на нее.
– Ты не шутишь? Обдумала?
– Не шучу. Я… – Настя еще больше покраснела.
– Подумай. Это не шутка.
– Я… я не могу жить без него, – сказала она порывисто, и светлые глаза ее потемнели. – А там, в Турции, с тобой я найду его, может быть, раненым…
В соседней комнате послышались шаги. «Маменька идет», – шепнула Настя, бледнея. Девушки прекратили разговор. Да оно и кстати: на улице пьяные голоса отхватывали:
Полоса ль моя, полосынька,Полоса ль моя, непаханая…Песни, рыдания, смех, слезы, похоронный перезвон, «сенцы», могила, мор – все это разом валится из мешка жизни. Только расхлебывай!
IX. Сказание о «Пифике». Встреча
На другой день утром, сойдя с своего мезонинчика вниз, к чаю, Лариса застала там веселого доктора. Крестьян Крестьяныч разговаривал о чем-то с отцом и братом. При входе Ларисы они, видимо, замяли разговор и переглянулись. Девушка со всеми поздоровалась. Она смотрела как будто бодрее, спокойнее.
– Ну, Ларивон Ларивоныч, напой-ка нас чаем, да хорошенько, – сказал отец, ласково целуя ее в голову.
– Да саечку свеженькую, милая хозяюшка, нельзя ли? – прибавил веселый доктор, потирая пухлые свои ручки.
– А какую. Крестьян Крестьяныч? – спросила девушка. – Заварную или с изюмом?
– Заварную… заварную-с… А можно и с изюмом эдак, не претит и это.
У дверей стояла краснощекая девочка и во весь рот улыбалась, глядя на веселого доктора.
– Что, Клюковка, тебя еще воробьи не склевали? – обратился к ней веселый доктор.
Девочка прыснула со смеху.
Брат Ларисы, Саня, юный лекарский школьник, заметил:
– Вашим больным. Крестьян Крестьяныч, должно быть всегда очень весело.
– Очень… Очень! Так всегда и заливаются со смеху, а теперь и удержу им нет.
Лариса командировала Клюкву за сайками и села разливать чай.
– А как «Беляночка» поживает, хозяюшка? Не замужем еще? – спросил доктор.
– Нет, – тихо сказала Лариса, не глядя на доктора.
– Ну, ничего, подождет…
– Не до женитьбы теперь, – заметил отец Ларисы.
– Отчего же, коллега? Самое как есть время… Вы все про болезнь-то эту? Э! Пустое! Она веселья боится, такая погань, я вам доложу… А знаете что, коллегушка? – спросил веселый доктор серьезно. – Раскусили вы эту шельму, а?
– Какую, язву, что ли?
– Ее, каналью… Ведь она у нас доморощенная: ну, вот точь-в-точь как всегда на Москве были сайки, да грушевый квас, да Царь-пушка, так всегда была у нас и чума…
– Вы шутите, товарищ?
– Нет, порази меня Царь-пушка, коли я шучу… Мы ее как сайку делаем. Я докладывал об этом и своему генералу.
– Еропкину?
– Еропкину, и он согласился со мной. Мало того: его превосходительство изволило заметить, что почти то же говорит и преосвященный Амвросий, только языком ветхозаветным, а я говорю языком этой шельмы медицины. Пестис у нас, батенька, на Москве растет целыми бакчами, как дыня в Астрахани. Я вчера и его превосходительство Петра Дмитрича возил на наши чумные баштаны, так диву дался: дыньки-то уж зреют, батенька… Генерал так и об полы: «И как-де только мы и живы поднесь!»
Атюшевы, отец и сын, и Лариса с удивлением и улыбкою смотрели на веселого доктора.
– Вас, товарищ, никогда не разберешь, шутите вы или материю говорите, – улыбаясь, заметил Атюшев-отец.
– Я, батенька, всегда материю говорю, всерьез, – отвечал веселый доктор и при этом сделал такое лицо, что молодой Атюшев невольно засмеялся, а Клюква, воротившись с сайками, прыснула со смеху и уронила корзинку на пол.
Веселый доктор, держа ломоть сайки перед молодым Атюшевым, сказал:
– Ну, младой эскулап, позвольте вас маленько пощупать, проэкзаменовать-с эдак малость, ась?
– Извольте, Крестьян Крестьяныч, я повинуюсь вам, – отвечал с улыбкой молодой Атюшев.
Веселый доктор скорчил мину экзаменатора.
– Что есть, государь мой, моровая язва?
– Моровая язва – пестис, есть особого рода болезнь, всех других опаснее, сильно прилипчивая контариоза и, производя наружные знаки на теле, как-то: бобоны, карбункулы, апараксес и малые черные пятна, петехии, скоро и по большей части предает смерти, – отвечал молодой Атюшев по-заученному.
– Изрядно, государь мой. Определите источник болезни.
– Источник сея болезни, по примечанию разных писателей, находится в самых жарких местах, в Индии, в Африке, а особенно в Египте. Яд моровой язвы не только прилипает к телам человеческим, но и ко всяким вещам. Сия прилипчивость причиною, что моровая язва в отдаленнейшие и холоднейшие страны переходит и, рассевая чрез прикосновение ядовитое семя, бедственные производит действия.
– А мы откуда сию болезнь получаем?
– Из Царьграда: Царьград и прочие в турецких областях торговые места, по превратному у турков правилу, по которому они все приписывают правлению слепого рока, почти всякий год претерпевают от язвы немалый в людях урон.
– Изрядно, изрядно… Итак, мы и существо сея шельмы, и источник знаем… А где сия шельма пестис зарождается и отчего? Кто ее сеет? Кто пахарь? А плесните мне, барышня, еще. (Это уже к Ларисе.) Ну-с, где оная рождается?
– Доселе известны были медицине три главных гнездилища сей язвы, и по оным гнездилищам оная и именуется: пестис индика имеет своим гнездилищем Индию, пестис левонтана имеет гнездилище в Малой Азии и Леванте и пестис Египта – в Египте, в Каире. Там он вырастает.
– Изрядно, сударь мой. А где вот эта сайка выросла? А? Откуда она?
– Из Обжорного ряду, барин, – поторопилась Клюква.
Все рассмеялись. Сконфуженная девочка спряталась за дверь.
– Изрядно, изрядно, Клюковка. Обжорный ряд – это своего рода Каир. А где финики растут?
– В Африке, кажется?
– Изрядно, в Африке, где и чума же… А на Таганке вырастет финик?
– Нет, не по климату.
– Изрядно-с. А слон где родится, государь мой?
– В Индии, Крестьян Крестьяныч.
– Преизрядно. А на Кузнецком мосту слон водится?
– Не видал, – юноша рассмеялся.
– Ну, дело. Теперь опять к шельме пестис перейдем… Говорят, что ее к нам занесли из Турции. Ладно! А занесите-ка на Девичье поле финик, примется он?
– Известно, засохнет и не примется.
– Тоже, думаю, тут ему не место. Ладно. Пойдем далее. Значит, все можно занести в Москву: и слона, и финик, да жить-то они здесь не могут, вымрут… Ну-с, еще далее пойдем. Говорят, пестис занесена к нам из Турции вместе с финиками, изюмом да еще там кое-чем… Ну, тут бы ей и капут. Так нет! Она, шельма эдакая, преспокойно растет и множится. Ясно, что попала на родную почву, для нее, подлой, что Индия, что Египет, что Левант, что Москва, все едино… А отчего вот она, бестия, не растет в Лондоне али бы в Париже?
– Когда ее занесут, Крестьян Крестьяныч, так она и там будет расти, горячо отвечал юноша, – вон в XIV веке, читал нам Шафонский, она всю Италию и Францию прошла, а в Марселе так ни единого человека в живых не оставила.
– Изрядно, государь мой. Это оттого, что тогда Париж был то же, что наша Москва-матушка, а Марсель – все едино, что наш Суконный двор… Для этой шельмы пестис, значит, тогда почва была благоприятна по всей Европе. Это ныне ее оттуда помелом гонят, вот что. А к нам она вон пришла как в свой дом, полной хозяйкой, как вот барышня милая здесь. А отчего? Оттого, что мы – Индия, государи мои, Москва-река – сей священный Ганг, а Яуза с Неглинной – это такие Тигр и Евфрат, что в них рыба дохнет… Вот что, милая девочка! – обратился он вдруг к Ларисе.
Девушка невольно вспыхнула. Атюшев смотрел на веселого доктора серьезно.
– Да, в ваших словах есть доля правды, – задумчиво сказал он.
– Не доля, коллегушка, а полна шапка правды. Я так и Еропкину докладывал, когда мы навещали наших суконщиков да прочих фабричников. Поняли вы эту сказку, милая девочка? – вдруг обратился он опять к Ларисе.
У Ларисы на глазах блестели слезы.
– Поняла Крестьян Крестьяныч.
– То-то же. А то какая-то сорока на хвосте принесла, якобы из Турции некии младые сержанты привезли к некоей отроковице образок с волосами умершего их друга, и от этих якобы волос пестис по Москве пошла, слоны по Кузнецкому мосту забегали, у Власья целые финиковые рощи расцвели.
– А как же, Крестьян Крестьяныч, няня-то умерла? – робко спросила девушка.
– Няня-то, «Пахонина», милая девочка? А где захворала «Пахонина»? У сторожа церкви священномученика Власья. А кто в семье у сторожа-то был? Суконщики, фабричники, парии наши. Не няня заразила их, а они огорченной старушке на шею пестис повесили, да и сами перемерли… Вот что, девочка хорошая.
Веселый доктор замолчал. Все сидели такие же задумчивые. Мерно щелкал только маятник часов, да изредка с улицы доносились роковые каноны: «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею»…
– Эх, кабы я был богат, – со вздохом сказал веселый доктор.
– А что? – спросил Атюшев-отец.
– Я бы еще чашечку испил.
– Так я вам налью, – поторопилась девушка.
– Плесните, милая барышня.
Лариса, вся пунцовая, несмотря на свою смуглоту, задумчиво наливала чай и недоуменно посматривала то на отца, то на брата.
«Житейское мо-о-ре!»…
– Эх, кабы я был богат! – снова вздохнул весельчак.
– А что? – улыбаясь, спросил Атюшев.
– Уснул бы, ух, как уснул бы! Всю ночь не спал, с Еропкиным да с больными возился. А там, к утру, его сиятельство, граф Салтыков, обер-полицмейстера присылает за мной, «по самонужнейшему делу», говорят. Испугался я: «Что такое, говорю, что случилось?» Флора, говорят, занемогла: не ест ничего…
– А кто эта Флора, Крестьян Крестьяныч? – участливо спросила Лариса.
– Собака любимая у графа…
А на улице опять: «Житейское море!..» Веселый доктор посмотрел на часы и быстро встал.
– Ну, прощайтесь со мной, – сказал он, подавая руку хозяйке и целуя ее руку. – Прощайте, друзья. В Индию еду, в Симонов монастырь…
И веселый доктор торопливо вышел. Заехав на минутку к Еропкину, у которого он состоял в личном распоряжении, веселый доктор поскакал в Симонов монастырь. Проезжая мимо Варварских ворот, он с видимым неудовольствием хмурился. С каждым днем толпы черного народа, мастеровых и сидельцев кучились в разных пунктах города все более и более. У разных часовен, у ворот городских, у всех почти икон, которых так много выставлено на всех улицах Москвы ради лобызанья и ставленья воскояровых свечечек с грошовыми кружечными и тарелочными сборами, на всех площадях шло непрестанное всемоление либо благочестивое разглагольствование.
– Вот и приходит к нему, к попу Мардарью, что у Троицы в Сыромятниках, пифик…
– А кто же он, этот фифик, батюшка?
– Не фифик, а пифик.
– Пи-фи-фи-фифик… Ишь, мудреное слово какое!
– Приходит этот пифик к попу Мардарью в образе старца и говорит: «О горе! Горе! Горе великому граду Москве!»
– Ох, Господи! Что же это будет!
– А ты слушай. «Горе, говорит, Москве… Пошлет на нее Бог каменный дождь, и избиет тот дождь велику живу душу, и скот, и птицу, и всех людей даже до сосущих младенцев…»
– Ох, святители! За что же, отец родной?
– А ты не перебивай… «И пошлет Бог, – говорит оный пифик отцу Мардарью, – огненную реку на Москву, и потечет оная река от Чудова монастыря Спасскими воротами до Лобного места, а от Лобного места потечет вниз под гору мимо Свечного ряда, да на Яблочный ряд, а от Яблочного ряда потечет та река чрез ряды Травяной и Семенной, и Рыбной, а из Никольских ворот потечет та река мимо рядов Ножового и Сайдачного[27], Шорного и Колокольного, Железного и Монатейного[28], Кружевного и Ветошного[29], а Иконный ряд не захватит, потому что иконы там. Да потечет та река мимо рядов Игольного, Кушачного, Овощного, да через ряды Суровской[30] и Сапожный, Зеркальной да Панской[31], Охотный да Голичный».
– Батюшка! Все ряды переберет! За что же, родной?
– А за грехи, за немоленье.
– Мы ли, батюшка, не молимся! Кажись, денно и нощно.
– Мало, без усердия, не с чистым сердцем.
– Да я тебе, отец родной, ладану четверик поставлю росного, жги, кури темьяном-то Божьим до неба.
– Так-то оно так, да все не то.
– Свеч тебе надобно? Да я тебе свеч поставлю лес целый, бор бором.
– Оно точно.
– А колокол хошь? В тыщу пудов вгоню.
– А может, Бог и смилуется. Только этот самый пифик говорит отцу Мардарью: «За чужие-де грехи Москва понести должна. Еретик-де сидит у вас в Чудовом».
– Кто же он, отец родной?
– Амвросий, слышь, архиепископ…
– То-то мы слышали, не русской он веры, слышь, а малороссийской, из волох родом.
– Это точно. Не архиерей он Божий, а Оброська-еретик…
– Ох, грехи, грехи!
– Вот нам, церковным попам, служить не велит, народ от веры отгоняет. Вот что пифик сказывал.
– Да растолкуй ты мне, Христа ради, батька, кто же этот фифик-то самый? Святой муж, что ли? Не пойму я что-то.
– Все это от темноты.
– Знамо, от темноты. Да где же нам свету-то взять? Только от вас, попов, и светимся.
– А он нас гонит, Обросим-то, архиепископ.
– За что же гонит-то?
– А ради своей корысти, чтоб его церковникам жирнее было… Оттого Бог и мор наслал на нас.
Так «гулящий попик», недалеко от Варварских ворот, стоя у одной лавки Охотного ряда, проповедовал невообразимые нелепости толстому купчине с мочальной бородой и этими нелепостями ужасал своего доверчивого слушателя так, что того бросало в жар и в холод. Не было басни самой невозможной, но только приправленной непонятными словами вроде «пифик» или «чудо», или «знамение», или «в образе старца» и т. п., которой бы не поверил народ и та из его интеллигенции, которая сидела по Охотным да Сундучным рядам. А теперь эти россказни вертелись или около «мору», или около будущего «каменного дождя», или же ожидаемой «огненной реки», – и все напряженно слушали ораторов вроде «гулящего попика». А «гулящий попик» представлял собою олицетворение того неудовольствия, которое с каждым днем росло все более и более среди бедного и заштатного духовенства на архиепископа Амвросия, решившегося изгнать из Москвы «наемное священство». Преосвященный тем энергичнее приступал к этому делу, что видел, как народные скопища, руководимые гулящими попами, способствовали распространению заразы: больные и зараженные выползали на площади, чтобы присутствовать на молебствиях, терлись около здоровых, заражали своим иконоприкладством и лобызанием крестов, и эти иконы и кресты, к которым прикладывались после них здоровые, и разносили по домам и по всему городу смерть.
Пресечь это исторически окрепшее на московской почве зло не было никакой возможности: скорее Москва-река потечет вспять, чем Москва-город пойдет вперед, поступится своими историческими привычками. Да и как искоренить это зло, когда и народ, и сидельцы, и купчины всевозможных родов, и сами попы, все это воспиталось на одном молоке, все это одинаково верит и «пифику» какому-то, которого никто не видел, и «каменному дождю», и «огненной реке», и «жупелу», и «старцам в сониях»! Амвросий, не понимая московского человека, для которого кричание молитвенное и каждение ладоном до неба, и оглушительное колокольное славословие – та же «широкая масленица», старается, вместе с Еропкиным, вытеснить с улиц и площадей «гулящих попиков» с их блеющей до неба паствою, а вместо этих попиков выползают на торжище настоящие попы, ставленные, хиритонисованные, и литургисают во всю ивановскую, «Мерзкие козлы, и попами их грех назвать!» – кричит с негодованием самовидец московских оргий, Бантыш-Каменский, племянник Амвросия и отец историка. «Мерзкие козлы, оставив свои приходы и церковные требы, собирались тут же на площадях, с налоями, делая торжища, а не богомолье…»
А между тем Амвросий, ратуя против всесильного Охотного ряда, не видел, что этим он скопляет над собой и над всей Москвой страшный горючий материал. Он не видел, что сера уже клокотала под землей. По улицам уже ходили рассказы о «сониях», о «пификах», о плачущей иконе… Имя «не русского» архиерея начало повторяться чаще и чаще.
– У него, матыньки, келейник, запорожец во какой! Сама видела.
– С косой; мать моя, и табачище жрет.
– Вон у него в Воскресенском брат архимандритом, Никоном называется, настоящий Никонишко-табашник.
– А там, мать моя, к попу Мардарию пифик, сказывают, приходил…
– Какой пифик, родимушка?
– А страшный, коленками назад.
– Владычица-матушка! Укрой от глада и мора!
И стоном стонет Москва от своей глупости. А между тем мор не унимается. Народ начинает озорничать, нет-нет да придерется к чему-нибудь или к кому-нибудь, да в салазки, да за волосы, и пошла потасовка на улице… А уж «чужой» и не подвертывайся: свои собаки грызутся, чужая не мешайся, разорвут.
Вон от Троицы-на-рву, мимо Винных рядов, мастеровые несут покойника. Хмурые лица такие. «Гулящий попик» уже впереди, вытащил из-под монатейки крестик, забыл о «пифике» и уже козло-гласует: «Житейское мо-о-ре!..»
В тот же день, возвращаясь из своих разъездов Варварскими воротами, веселый доктор вдруг велел своему вознице остановиться. Что-то на площади привлекло его внимание…
По площади шел солдат, лицо которого особенно резко бросалось в глаза своими густыми бровями. Рядом с ним бежала собачонка и заглядывала в глаза своему спутнику. Солдат, видимо, рассуждал о чем-то, обращаясь к собачонке, а собачонка, казалось, понимала его.
– Да-да! – пробормотал доктор. – Да это, кажись, старый знакомый. Да и собачонка наша.
Солдат поравнялся с доктором, продолжая разговаривать с собакой.
– Эй, служба! Здорово! – закричал доктор.
Солдат остановился, а собачонка разом весело залаяла и приветливо замотала хвостом.
– Али не узнаешь азовца, Рудожелтый Кочет? – улыбался доктор.
– Ах, ваше благородие! Как не узнать вас? – радовался солдат.
– А! Узнал, рыжий!
– Вас-то не узнать! Да будь вы иголка, так я вас в стоге сена сыскал бы.
– Так-так. Вон и Маланья узнала. Ах ты, псина глупая!
Собачонка, казалось, одурела от радости, она так и лезла на дроги.
– Какими судьбами сюда попал с Прута, рыжий? – спрашивал доктор.
– Да с полковником Шаталовым, ваше благородие, из Хотин-города.
– Давно? И как пробрались в Москву?
– Еще летось… Ну, и в карантене проклятом высидели. И Меланья с нами, тоже службу несет.
– А приятель твой где?
– Забродя-то, ваше благородие?
– Да. В Турции остался? Жив?
– Да в карантене с нами был…
Рыжий замолчал.
– Ну, и что ж?
– Тосковал шибко. Заговариваться стал, все Горпину какую-то вспоминал да вишневый садочек, да леваду какую-то там. Бог его знает. Совсем рехнулся человек… Горпина да Горпина… Нашего брата, ваше благородие, эти Горпинки до добра не доведут. Эх! Кусай ее мухи! – и рыжий отчаянно махнул рукой и замолчал.
X. Смерть грешников люта!
Время между тем шло, и чудовище разрасталось все более и более в форме какого-то гигантского тысяченога, бесчисленные лапы которого с каждым днем все крепче обхватывали Москву, словно паук муху. Муха билась в цепкой паутине чудовища и еще более запутывалась.
По глазам веселого доктора, по озабоченности всех врачей медицинской коллегии: Шафонского, Эразмуса, Ягельского, Лерхе и других Еропкин видел, что Москва погибает в лапах чудовища. Надо отрезать этот страшный карбункул России от всего остального государственного тела.
И вот московские медицинские власти к концу апреля приходят к неизбежному убеждению, как слепые к стене, что «предосторожность о сбережении целого государства требует: город Москву, как неминуемое и повсеместное во всех делах с прочими местами имеющей сообщение запереть».
И Москву запирают, заколачивают гробовую крышку, оставив несколько продушин: из всех четырнадцати застав, которыми Москва, как зараженное сердце артериями, могла выбрасывать заразу во все концы государственного организма, оставляют открытыми семь: Калужскую, Серпуховскую, Рогожскую, Преображенскую, Троицкую, Тверскую и Дорогомиловскую.
Но всего более боялись, чтобы чудовище не вырвалось из Москвы по направлению к северу и не помчалось по питерской дороге. А там, там уже нет никому спасения. И вот со стороны Питера протягивается вдоль зараженного сердца России новая цепь: бейся, сердце России, об свои ребра, бейся, глупое, и не посылай свою зараженную кровь к голове, к мозгу, голова еще не тронута у России. Из Петербурга пришло повеление: всех, кто бы ни ехал в Петербург или другие места мимо Москвы, в Москву не пускать, а направлять, через заставы, окольными путями.
– А ведь укусит себя до смерти, – качал головой веселый доктор, встретившись с отцом Ларисы в госпитале.
– Кто укусит? – спрашивал тот.
– Москва белокаменная…
– Как укусит?
– Да как же! Ее обложили теперь кругом огнями да заставами, словно скорпиона. А ведь когда скорпиона окружат огнем, то он себя убивает своим хвостом. Ох! Убьет себя и Москва своим хвостом.
Но об этом еще никто не думал тогда…
Чтобы воздвигнуть между Москвою и Петербургом неприступную живую стену, непроезжаемую и неперелетаемую, императрица отрядила из Петербурга особые оберегательные кордоны в Твери, Вышнем Волочке и Бронницах, под главным распоряжением генерал-адъютанта Брюса…
– Я вас, граф, за то посылаю туда, – говорила императрица, давая Брюсу это не особенно приятное поручение, – что ваш славный дедушка не предуведомил нас в своем «календаре» о постигшем нас ныне несчастии… А сие он должен был сделать по долгу службы, – добавила она, улыбаясь.
Прошел и май, а Москва все звонила в колокола, ожидая каменного дождя да огненной реки.