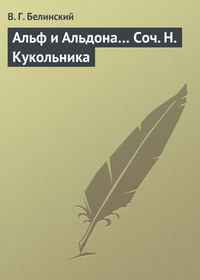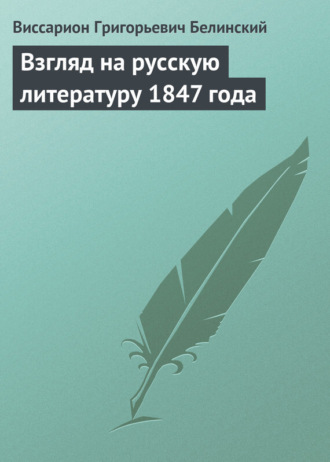 полная версия
полная версияВзгляд на русскую литературу 1847 года
Он приехал в деревню живым трупом; нравственная жизнь была в нем совершенно парализована; самая наружность его сильно изменилась, мать едва узнала его. С нею он обошелся почтительно, но холодно, ничего ей не открыл, не объяснил. Он, наконец, понял, что между ним и ею нет ничего общего, что если б он стал ей объяснять, куда девались его волоски, она поняла бы это так же, как Евсей и Аграфена. Ласки и угождение матери скоро стали ему в тягость. Места – свидетели его детства – расшевелили в нем прежние мечты, и он начал хныкать о их невозвратной потере, говоря, что счастие в обманах и призраках. Это общее убеждение всех дряблых, бессильных, недоконченных натур. Ведь, кажется, опыт достаточно показал ему, что все его несчастия произошли именно оттого, что он предавался обманам и мечтам: воображал, что у него огромный поэтический талант, тогда как у него не было никакого, что он создан для какой-то героической и самоотверженной дружбы и колоссальной любви, тогда как в нем ничего не было героического, самоотверженного. Это был человек обыкновенный, но вовсе не пошлый. Он был добр, любящ и не глуп, не лишен образования; все несчастия его произошли оттого, что, будучи обыкновенным человеком, он хотел разыграть роль необыкновенного. Кто в молодости не мечтал, не предавался обманам, не гонялся за призраками, и кто не разочаровывался в них, и кому эти разочарования не стоили сердечных судорог, тоски, апатии, и кто потом не смеялся над ними от всей души? Но здоровым натурам полезна эта практическая логика жизни и опыта: они от нее развиваются и мужают нравственно; романтики гибнут от нее…
Когда мы в первый раз читали письмо нашего героя к тетке и дяде, писанное после смерти его матери и исполненное душевного спокойствия и здравого смысла, – это письмо подействовало на нас как-то странно; но мы объяснили его себе так, что автор хочет послать своего героя снова в Петербург затем, чтобы тот новыми глупостями достойно заключил свое донкихотское поприще. Письмом этим заключается вторая часть романа; эпилог начинается через четыре года после вторичного приезда нашего героя в Петербург. На сцене Петр Иваныч. Это лицо введено в роман не само для себя, а для того, чтобы своею противоположностию с героем романа лучше оттенить его. Это набросило на весь роман несколько дидактический оттенок, в чем многие не без основания упрекали автора. Но автор умел и тут показать себя человеком с необыкновенным талантом. Петр Иваныч – на абстрактная идея, живое лицо, фигура, нарисованная во весь рост кистью, смелою, широкою и верною. О нем, как о человеке, судят или слишком хорошо, или слишком дурно, и в обоих случаях ошибочно. Одни хотят видеть в нем какой-то идеал, образец для подражания: это люди положительные и рассудительные. Другие видят в нем чуть не изверга: это мечтатели. Петр Иваныч по-своему человек очень хороший; он умен, очень умен, потому что хорошо понимает чувства и страсти, которых в нем нет и которые он презирает; существо вовсе не поэтическое, он понимает поэзию в тысячу раз лучше своего племянника, который из лучших произведений Пушкина как-то ухитрился набраться такого духа, какого можно было бы набраться из сочинений фразеров и риторов. Петр Иваныч эгоист, холоден по натуре, неспособен к великодушным движениям, но вместе с этим он не только не зол, но положительно добр. Он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него можно положиться, он не обещает, чего не может или не хочет сделать, а что обещает, то непременно сделает. Словом, это в полном смысле порядочный человек, каких, дай бог, чтоб было больше. Он составил себе непреложные правила для жизни, сообразуясь с своею натурою и с здравым смыслом. Он ими не гордился и не хвастался, но считал их непогрешительно верными. Действительно, мантия его практической философии была сшита из прочной и крепкой материи, которая хорошо могла защищать его от невзгод жизни. Каковы же были его изумление и ужас, когда, дожив до боли в пояснице и до седых волос, он вдруг заметил в своей мантии прореху – правда, одну только, но зато какую широкую. Он не хлопотал о семейственном счастии, но был уверен, что утвердил свое семейственное положение на прочном основании, – и вдруг увидел, что бедная жена его была жертвою его мудрости, что он заел ее век, задушил ее в холодной и тесной атмосфере. Какой урок для людей положительных, представителей здравого смысла! Видно, человеку нужно и еще чего-нибудь немножко, кроме здравого смысла! Видно, на границах-то крайностей больше всего и стережет нас судьба. Видно, и страсти необходимы для полноты человеческой натуры, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому то счастие, которое только нас может удовлетворить, – но всякий человек может быть счастливым только сообразно с собственною натурою. Петр Иваныч хитро и тонко расчел, что ему надо овладеть понятиями, убеждениями, склонностями своей жены, не давая ей этого заметить, вести ее по дороге жизни, но так, чтоб она думала, что сама идет; но он сделал в этом расчете одну важную ошибку: при всем своем уме, он не сообразил, что для этого надо было выбрать жену, чуждую всякой страстности, всякой потребности любви и сочувствия, холодную, добрую, вялую, всего лучше пустую, даже немножко глупую. Но на такой он, может быть, не захотел бы жениться по самолюбию; в таком случае ему следовало вовсе не жениться.
Петр Иваныч выдержан от начала до конца с удивительною верностию; но героя романа мы не узнаем в эпилоге: это лицо вовсе фальшивое, неестественное. Такое перерождение для него было бы возможно только тогда, если б он был обыкновенный болтун и фразер, который повторяет чужие слова, не понимая их, наклепывает на себя чувства, восторги и страдания, которых никогда не испытывал; но молодой Адуев, к его несчастию, часто бывал слишком искренен в своих заблуждениях и нелепостях. Его романтизм был в его натуре; такие романтики никогда не делаются положительными людьми. Автор имел бы скорее право заставить своего героя заглохнуть в деревенской дичи в апатии и лени, нежели заставить его выгодно служить в Петербурге и жениться на большом приданом. Еще бы лучше и естественнее было ему сделать его мистиком, фанатиком, сектантом; но всего лучше и естественнее было бы ему сделать его, например, славянофилом. Тут Адуев остался бы верным своей натуре, продолжал бы старую свою жизнь и между тем думал бы, что он и бог знает как ушел вперед, тогда как, в сущности, он только бы перенес старые знамена своих мечтаний на новую почву. Прежде он мечтал о славе, о дружбе, о любви, а тут стал бы мечтать о народах и племенах, о том, что на долю славян досталась любовь, а на долю тевтонов – вражда, о том, что во времена Гостомысла славяне имели высшую и образцовую для всего мира цивилизацию, что современная Россия быстро идет к этой цивилизации, что этого не видят только слепые и ожесточенные рассудком, а все зрячие и размягченные фантазиею давно это ясно видят. Тогда бы герой был вполне современным романтиком, и никому бы не вошло в голову, что люди такого закала теперь уже не существуют…
Придуманная автором развязка романа портит впечатление всего этого прекрасного произведения, потому что она неестественна и ложна. В эпилоге хороши только Петр Иваныч и Лизавета Александровна до самого конца; в отношении же к герою романа эпилог хоть не читать… Какой такой сильный талант мог впасть в такую странную ошибку? Или он не совладал с своим предметом? Ничуть не бывало! Автор увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему почве – на почве сознательной мысли – и перестал быть поэтом. Здесь всего яснее открывается различие его таланта с талантом Искандера: тот и в сфере чуждой для его таланта действительности умел выпутаться из своего положения силою мысли; автор «Обыкновенной истории» впал в важную ошибку именно оттого, что оставил на минуту руководство непосредственного таланта. У Искандера мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительною верностию сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести суд. Г. Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностию рисовать; говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить своим читателям. Картины Искандера отличаются не столько верностию рисунка и тонкостию кисти, сколько глубоким знанием изображаемой им действительности, они отличаются больше фактическою, нежели поэтическою истиною, увлекательны слогом не столько поэтическим, сколько исполненным ума, мысли, юмора и остроумия, – всегда поражающими оригинальностию и новостию. Главная сила таланта г. Гончарова – всегда в изящности и тонкости кисти, верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств, как, например, в поэтическом описании процесса горения в камине сочинений молодого Адуева. В таланте Искандера поэзия – агент второстепенный, а главный – мысль; в таланте г. Гончарова поэзия – агент первый и единственный…
Несмотря на неудачный, или, лучше сказать, на испорченный, эпилог, роман г. Гончарова остается одним из замечательных произведений русской литературы. К особенным его достоинствам принадлежит, между прочим, язык чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся. Рассказ г. Гончарова в этом отношении не печатная книга, а живая импровизация. Некоторые жаловались на длинноту и утомительность разговоров между дядею и племянником. Но для нас эти разговоры принадлежат к лучшим сторонам романа. В них нет ничего отвлеченного, не идущего к делу; это – не диспуты, а живые, страстные, драматические споры, где каждое действующее лицо высказывает себя, как человека и характер, отстаивает, так сказать, свое нравственное существование. Правда, в такого рода разговорах, особенно при легком, дидактическом колорите, наброшенном на роман, всего легче было споткнуться хоть какому таланту; но тем больше чести г. Гончарову, что он так счастливо решил трудную самое по себе задачу и остался поэтом там, где так легко было сбиться на тон резонера.{32}
Теперь у нас на очереди «Рассказы охотника» г. Тургенева.{33} Талант г. Тургенева имеет много аналогии с талантом Луганского (г. Даля). Настоящий род того и другого – физиологические очерки разных сторон русского быта и русского люда. Г. Тургенев начал свое литературное поприще лирическою поэзиею. Между его мелкими стихотворениями есть пьесы три-четыре очень недурных, как, например, «Старый помещик», «Баллада», «Федя», «Человек, каких много», но эти пьесы удались ему потому, что в них или вовсе нет лиризма, или что в них главное не лиризм, а намеки на русскую жизнь. Собственно же лирические стихотворения г. Тургенева показывают решительное отсутствие самостоятельного лирического таланта. Он написал несколько поэм. Первая из них – «Параша», была замечена публикою при ее появлении, по бойкому стиху, веселой иронии, верным картинам русской природы, а главное – по удачным физиологическим очеркам помещичьего быта в подробностях. Но прочному успеху поэмы мешало то, что автор, пиша ее, вовсе не думал о физиологическом очерке, а хлопотал о поэме в том смысле, в каком у него нет самостоятельного таланта к этому роду поэзии. Оттого все лучшее в ней проблеснуло как-то случайно, невзначай. Потом он написал поэму «Разговор»; стихи в ней звучные и сильные, много чувства, ума, мысли; но как эта мысль чужая, заимствованная, то на первый раз поэма могла даже понравиться, но прочесть ее вторично уже не захочется. В третьей поэме г. Тургенева – «Андрей» много хорошего, потому что много верных очерков русского быта; но в целом поэма опять не удалась, потому что это повесть любви, изображать которую не в таланте автора. Письмо героини к герою поэмы длинно и растянуто, в нем больше чувствительности, нежели пафоса. Вообще в этих опытах г. Тургенева был замечен талант, но какой-то нерешительный и неопределенный. Он пробовал себя и в повести: написал «Андрея Колосова», в котором много прекрасных очерков характеров и русской жизни, но, как повесть, в целом это произведение до того странно, не досказано, неуклюже, что очень немногие заметили, что в нем было хорошего. Заметно было, что г. Тургенев искал своей дороги и все еще не находил ее, потому что это не всегда и не всем легко и скоро удается. Наконец г. Тургенев написал стихотворный рассказ – «Помещик», – не поэму, а физиологический очерк помещичьего быта, шутку, если хотите, но эта шутка как-то вышла далеко лучше всех поэм автора. Бойкий эпиграмматический стих, веселая ирония, верность картин, вместе с этим выдержанность целого произведения, от начала до конца, – все показывало, что г. Тургенев напал на истинный род своего таланта, взялся за свое и что нет никаких причин оставлять ему вовсе стихи. В то же время был напечатан его рассказ в прозе – «Три портрета», из которого видно было, что г. Тургенев и в прозе нашел свою настоящую дорогу. Наконец в первой книжке «Современника» за прошлый год был напечатан его рассказ «Хорь и Калиныч». Успех в публике этого небольшого рассказа, помещенного в смеси, был неожидан для автора и заставил его продолжать рассказы охотника. Здесь талант его обозначился вполне. Очевидно, что у него нет таланта чистого творчества, что он не может создавать характеров, ставить их в такие отношения между собою, из каких образуются сами собою романы или повести. Он может изображать действительность, виденную и изученную им, если угодно – творить, но из готового, данного действительностию материала. Это не просто списывание с действительности, – она не дает автору идей, но наводит, наталкивает, так сказать, на них. Он перерабатывает взятое им готовое содержание по своему идеалу, и от этого у него выходит картина, более живая, говорящая и полная мысли, нежели действительный случай, подавший ему повод написать эту картину; и для этого необходим, в известной мере, поэтический талант. Правда, иногда все уменье его заключается в том, чтобы только верно передать знакомое ему лицо или событие, которого он был свидетелем, потому что в действительности бывают иногда явления, которые стоит только верно переложить на бумагу, чтоб они имели все признаки художественного вымысла. Но и для этого необходим талант, и таланты такого рода имеют свои степени. В обоих этих случаях г. Тургенев обладает весьма замечательным талантом. Главная характеристическая черта его таланта заключается в том, что ему едва ли бы удалось создать верно такой характер, подобного которому он не встретил в действительности. Он всегда должен держаться почвы действительности. Для такого рода искусства ему даны от природы богатые средства: дар наблюдательности, способность верно и быстро понять и оценить всякое явление, инстинктом разгадать его причины и следствия и, таким образом, догадкою и соображением дополнить необходимый ему запас сведений, когда расспросы мало объясняют.
Не удивительно, что маленькая пьеска «Хорь и Калиныч» имела такой успех: в ней автор зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил. Хорь, с его практическим смыслом и практическою натурою, с его грубым, но крепким и ясным умом, с его глубоким презрением к «бабам» и сильною нелюбовью к чистоте и опрятности, – тип русского мужика, умевшего создать себе значущее положение при обстоятельствах весьма неблагоприятных. Но Калиныч – еще более свежий и полный тип русского мужика: это поэтическая натура в простом народе. С каким участием и добродушием автор описывает нам своих героев, как умеет он заставить читателей полюбить их от всей души! Всех рассказов охотника было напечатано прошлого года в «Современнике» семь.{34} В них автор знакомит своих читателей с разными сторонами провинциального быта, с людьми фазных состояний и званий. Не все его рассказы одинакового достоинства: одни лучше, другие слабее, но между ними нет ни одного, который бы чем-нибудь не был интересен, занимателен и поучителен. «Хорь и Калиныч» до сих пор остается лучшим из всех рассказов охотника; за ним – «Бурмистр», а после него «Однодворец Овсяников» и «Контора». Нельзя не пожелать, чтобы г. Тургенев написал еще хоть целые томы таких рассказов.
Хотя рассказ г. Тургенева «Петр Петрович Каратаев», напечатанный во второй книжке «Современника» за прошлый год, и не принадлежит к ряду рассказов охотника, но это такой же мастерской физиологический очерк характера чисто русского, и притом с московским оттенком. В нем талант автора выказался с такою же полнотою, как и в лучших из рассказов охотника.
Не можем не упомянуть о необыкновенном мастерстве г. Тургенева изображать картины русской природы. Он любит природу не как дилетант, а как артист, и потому никогда не старается изображать ее только в поэтических ее видах, но берет ее, как она ему представляется. Его картины всегда верны, вы всегда узнаете в них нашу родную, русскую природу…
Г. Григорович посвятил свой талант исключительно изображению жизни низших классов народа. В его таланте тоже много аналогии с талантом г. Даля. Он также постоянно держится на почве хорошо известной и изученной им действительности; но его два последние опыта «Деревня» («Отечественные записки» 1846 г.) и в особенности «Антон-Горемыка» («Современник» 1847 г.) идут гораздо дальше физиологических очерков.{35} «Антон-Горемыка» – больше, чем повесть: это роман, в котором все верно основной идее, все относится к ней, завязка и развязка свободно выходят из самой сущности дела. Несмотря на то, что внешняя сторона рассказа вся вертится на пропаже мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антон – мужик простой, вовсе не из бойких и хитрых, он лицо трагическое, в полном значении этого слова. Эта повесть трогательная, по прочтении которой в голову невольно теснятся мысли грустные и важные. Желаем от всей души, чтобы г. Григорович продолжал итти по этой дороге, на которой от его таланта можно ожидать так многого… И пусть он не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для верного определения объема таланта; чем большая их стая бежит вслед успеха, тем значит успех огромнее…
В последней книжке «Современника» за прошлый год была напечатана «Полинька Сакс», повесть г. Дружинина, лица совершенно нового в русской литературе. Многое в этой повести отзывается незрелостию мысли, преувеличением, лицо Сакса немножко идеально; несмотря на то, в повести так много истины, так много душевной теплоты и верного сознательного понимания действительности, так много таланта, и в таланте так много самобытности, что повесть тотчас же обратила на себя общее внимание. Особенно хорошо в ней выдержан характер героини повести, – видно, что автор хорошо знает русскую женщину. Вторая повесть г. Дружинина, появившаяся в нынешнем году, подтверждает поданное первою повестью мнение о самостоятельности таланта автора и позволяет многого ожидать от него в будущем.{36}
К замечательнейшим повестям прошлого года принадлежит «Павел Алексеевич Игривый», повесть г. Даля («Отечественные записки»). Карл Иванович Гонобобель и ротмистр Шилохвастов, как характеры, как типы, принадлежат к самым мастерским очеркам пера автора. Впрочем, все лица в этой повести очерчены прекрасно, особенно дражайшие родители Любоньки; но молодой Гонобобель и друг его Шилохвастов – создания гениальные. Это типы довольно знакомые многим по действительности, но искусство еще в первый раз воспользовалось ими и передало их на приятное знакомство всему миру. Повесть эта нравится не одними подробностями и частностями, как все большие повести г. Даля; она почти выдержана в целом, как повесть. Говорим почти, потому что трагическое для героя повести событие производит на читателя впечатление чего-то неожиданного и непонятного. Человек так любил женщину, столько делал для нее; она, повидимому, так любила его; беспутный муж ее умер; друг спешит за границу на свидание с ней, окрыленный надеждами, любви, и видит ее замужем за другим. Дело в том, что автор не хотел окрасить своего рассказа тем колоритом, по которому читатель видел бы естественность такой развязки. Игривый – человек комически робкий и стыдливый, почему и дозволил двум негодяям из рук вырвать у него невесту. Во время страданий ее супружеской жизни он вел себя в отношении к ней, как деликатнейший и благороднейший человек, но нисколько как любовник: оттого ее оробевшее, запуганное чувство к нему скоро обратилось в благодарность, уважение, удивление, наконец, в благоговение; она видела в нем друга, брата, отца, воплощенную добродетель и уже по тому самому не видела в нем любовника. После этого развязка понятна, равно как и то, что Игривый на всю остальную жизнь свою сделался каким-то помешанным шутом.
В «Библиотеке для чтения» прошлого года тянулись «Приключения, почерпнутые из море житейского» г. Вельтмана, кончившиеся во второй книжке этого журнала на нынешний год. Так как этот роман начался, кажется, в 1846 году, то мы о нем уже имели случай говорить. И потому снова повторим, что в этом произведении роман смешан с сказкою, невероятное с вероятным, невозможное с возможным. Так, например, Дмитрицкий, герой романа, воспользовавшись бумагами и платьем простофили молодого купчика, который, как нарочно, был очень похож на него лицом, является к его отцу в качестве его сына. Он так ловко играет свою роль, что ни отец, ни мать и никто из домашних ни на одну минуту не возымел подозрения в тожестве самозванца с настоящим сыном. Самозванец женится на богатой невесте и, узнавши в ночь брака, что настоящий сын появился, тотчас же выбирается из чужого гнезда с огромным пуком ассигнаций, полученных в приданое за женою, и с другого же дня начинает играть в московском большом свете роль богатого венгерского магната. Мудрено что-то! Но, поставивши свои лица в невероятные положения, автор тем не менее увлекательно описывает их похождения. Но там, где в романе нет натяжек, талант автора является в самом выгодном для него свете. Так, например, похождения настоящего сына, который все сбирается и никак не может решиться броситься в ноги к своему «тятиньке», боясь, что дражайший родитель сразу пришибет его насмерть, исполнены истины, глубокого знания действительности, увлекающего интереса. Таких прекрасных эпизодов в романе г. Вельтмана много. Лучше всего даются ему изображения купеческих, мещанских и простонародных нравов. Слабее всего у него картины большого света. Так, например, у него важную роль играет великосветский молодой человек Чаров, которого вся светскость состоит в том, что он всем своим приятелям и знакомым говорит: ска-атина, у-урод!.. Несмотря на все странности и, можно сказать, нелепости романа г. Вельтмана, это все-таки очень замечательное произведение.
Теперь упомянем о некоторых произведениях менее замечательных. В «Отечественных записках» была напечатана повесть г. Нестроева «Сбоев».{37} В ней с большим искусством обрисован внутренний семейный быт одного московского чиновника. Особенно оригинально и тонко обрисован характер бедной жены Ивана Кирилловича, Анны Ивановны. Нечаянно разбитое большое зеркало наводит на читателя невольный ужас: так мастерски автор умел намекнуть, чего должно было ожидать себе бедное семейство от своего почтенного главы… Но это только задний план повести; ее главное основано на любви Сбоева к Ольге, дочери титулярного советника, и вообще на оригинальном характере этих двух лиц. Но эта-то главная сторона повести и вышла неудачно. Личности героя и героини как-то неестественны, не то, чтобы такие люди не могли существовать в природе, они только не удались автору повести. И не мудрено, в начале ее автор сам говорит, что его повесть была вызвана чужою повестью: заимствованные мысли редко удаются. В конце обещана новая повесть, которая должна служить окончанием первой: такие обещания тоже редко удаются… В «Современнике» была напечатана повесть того же автора – «Без рассвета». Мысль повести прекрасна и могла бы обещать повести больший успех, нежели какой она имела; причиною этого было, кажется нам, то обстоятельство, что второстепенные лица в повести все обрисованы более или менее удачно (характер мужа героини даже мастерски), тогда как характер героини вышел у него крайне бесцветен. Это существо вялое, отрицательное, без всякого сопротивления к гнетущим ее обстоятельствам; могло ли оно возбудить к себе какое-либо сочувствие в читателях. То ли дело Полинька Сакс! Воспитание сделало ее ребенком, но опыт жизни пробудил в ней сознание и сделал ее женщиной. Умирая, она писала к своей приятельнице: «Напрасно брат твой спит у моих ног и по глазам моим угадывает мои желания. Я не могу любить его, я не могу понимать его, он не мужчина, он дитя: я стара для его любви. Это он человек, он мужчина во всем смысле слова: душа его и велика и спокойна… Я люблю его, не перестану любить его».
Нам остается упомянуть еще о «Записках человека» Ста одного («Отечественные записки»), о «Кирюше», рассказе неизвестного автора,{38} и о «Жиде» г. Тургенева, чтобы докончить наш критический перечень всего сколько-нибудь замечательного, что явилось в прошлом году по части романов, повестей и рассказов. Но мы должны сказать еще несколько слов о «Хозяйке», повести г. Достоевского, весьма замечательной, но только совсем не в том смысле, как те, о которых мы говорили до сих пор. Будь под нею подписано какое-нибудь неизвестное имя, мы бы не сказали о ней ни слова. Герой повести – некто Ордынов; он весь погрузился в занятия науками; какими – об этом автор не сказал своим читателям, хотя на этот раз их любопытство было очень законно. Наука кладет свою печать не только на мнения, но и на действия человека? вспомните доктора Крупова. Из слов и действий Ордынова нисколько не видно, чтоб он занимался какою-нибудь наукою; но можно догадаться из них, что он сильно занимался кабалистикою, чернокнижием, – словом, чаромутием… Но ведь это не наука, а сущий вздор; но тем не менее и она наложила на Ордынова свою печать, то есть сделала его похожим на поврежденного и помешанного. Ордынов встречает где-то красавицу купчиху; не помним, сказал ли автор что-нибудь о цвете ее зубов, но должно быть, что зубы у ней были белые, в виде исключения, ради большей поэзии повести. Она шла об руку с пожилым купцом, одетым по-купечески и с бородою. В глазах у него столько электричества, гальванизма и магнетизма, что иной физиолог предложил бы ему хорошую цену за то, чтоб он снабжал его по временам если не глазами, то хоть молниеносными, искрящимися взглядами для ученых наблюдений и опытов. Герой наш тотчас же влюбился в купчиху; несмотря на магнетические взгляды и ядовитую усмешку фантастического купца, он не только узнал, где они живут, но и какими-то судьбами навязался к ним в жильцы и занял особую комнату. Тут пошли любопытные сцены: купчиха несла какую-то дичь, в которой мы не поняли ни единого слова, а Ордынов, слушая ее, беспрестанно падал в обморок. Часто тут вмешивался купец, с его огненными взглядами и с сардоническою улыбкою. Что они говорили друг другу, из чего так махали руками, кривлялись, ломались, замирали, обмирали, приходили в чувство, – мы решительно не знаем, потому что изо всех этих длинных патетических монологов не поняли ни единого слова. Не только мысль, даже смысл этой, должно быть, очень интересной повести остается и останется тайной для нашего разумения, пока автор не издаст необходимых пояснений и толкований на эту дивную загадку его причудливой фантазии. Что это такое – злоупотребление или бедность таланта, который хочет подняться не по силам и потому боится итти обыкновенным путем и ищет себе какой-то небывалой дороги? Не знаем; нам только показалось, что автор хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши сюда немного юмору в новейшем роде и сильно натеревши все это лаком русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное, напоминающее теперь фантастические рассказы Тита Космократова, забавлявшего ими публику в 20-х годах нынешнего столетия. Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: все изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво. Что за фразы; Ордынов бичуется каким-то неведомо сладостным и упорным чувством; проходит мимо остроумной мастерской гробовщика; называет свою возлюбленную голубицею и спрашивает, из какого неба она залетела в его небеса; но довольно, боимся увлечься выписками диковинных фраз этой повести – конца им не было бы. Что это такое? Странная вещь! непонятная вещь!..