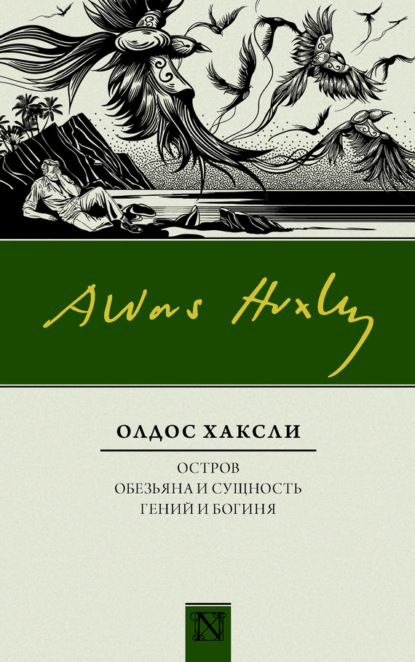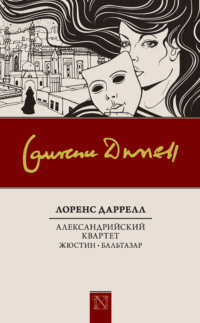Александрийский квартет: Жюстин. Бальтазар
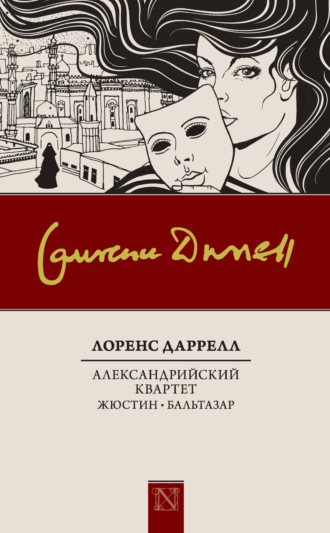
Полная версия
Александрийский квартет: Жюстин. Бальтазар
Жанр: зарубежная классикалитература 20 векапсихологическая прозалюбовный многоугольниксудьба человекаистории о любвисовременная классикапортрет эпохи
Язык: Русский
Год издания: 2018
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу