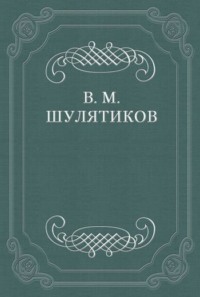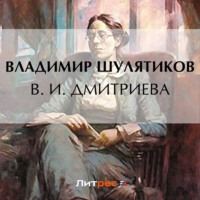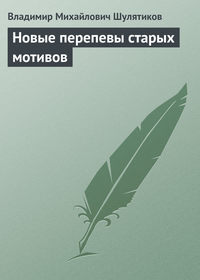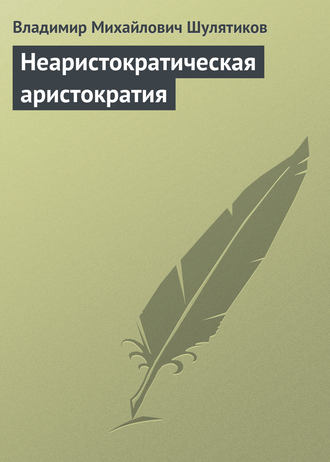 полная версия
полная версияНеаристократическая аристократия

Владимир Шулятиков
Неаристократическая аристократия[1]
I
Новейшая русская литература, на первый взгляд, дает в руки оппонентов марксизма неотразимое оружие: она доказывает, по-видимому, самым блестящим образом, доказывает, как дважды два – четыре, полнейшую невозможность связывать «идеологические» течения с «материальной подпочвой».
Социальная действительность говорит о ликвидации «феодального» хозяйства и о завоевательных успехах капиталистической буржуазии. Литература, напротив, стоит под знаком возврата к прошлому, реставрации «аристократического» искусства. Непримиримой противницей «феодализма» заявляет себя буржуазия и в борьбе с переживаниями последнего видит исключительно свою «освободительную» миссию. В то же время устами своих идеологов, в роде гг. Струве[2] и Бердяевы[3], она слагает славословия «аристократической» цивилизации и аристократии, как носительнице «культурных идеалов», предавая анафеме «убожество» буржуазно-демократической психики и буржуазно-демократического творчества в области идеологии.
Получается радикальное противоречие, которое, по-видимому, можно объяснить себе только в том случае, если идеологию признать совершенно независимой от «подпочвы». Раз, на самом деле, подобная точка зрения верна, раз идеологическое творчество представляет собою самодовлеющую ценность, то становится вполне понятным, каким образом, нисколько не изменяя самому себе, своим враждебным чувствам к «феодализму», буржуазное общество может делать «культурные» заимствования у своего противника… Итак, идеологии возвращается ореол, который окружал ее до того момента, как экономический материализм предпринял свою разрушительную критическую работу. Господа, сторонники традиционной оценки искусства, не правда ли: на вашей улице праздник? Да еще какой! Вага неприятель отнимал у вас одну позицию за другой, вам приходилось последовательно расписываться в собственном банкротстве… и вдруг все труды неприятеля обращаются в ничто.
Но мы все-таки подадим вам благой совет: не спешите торжествовать.
Вопрос не так прост, как с первого взгляда может показаться. Отрешив буржуазии от собственной культуры и усвоение ею культуры, созданной другим классом, нельзя понимать в буквальном смысле: заявляя о своих аристократических «симпатиях», в частности, воскрешая художественное credo романтизма, буржуазия тем самым не выдает себе форменнго и безусловного testimonium paupertatis[4], не совершает акта заимствования чего-то совершенно чужого, не являющегося органическим продуктом ее собственной деятельности. Всякого рода заимствования могут иметь место только там, где они вытекают из реальных интересов заимствующего класса. Когда речь идет о различных реставрациях и воскрешениях, центр тяжести вопроса заключается не в том, что известная общественная группа берет нечто у другой группы, фигурировавшей некогда на исторической сцене, а в том, что среди первой группы развелись известные тенденции, делающие возможным утилизацию старых идеологических форм. Другими словами, эти старые формы важны не сами по себе, а как отражение «нового», отражение «материальных» наслоений текущей жизни.
Итак, чтобы вскрыть материальную основу возрождения «аристократической» литературы, мы должны говорить о «новом», которым характеризуется современное положение буржуазного общества. И это «новое» есть не что иное как преобразования, произведенные в недрах означенного общества появлением фабрики нового типа.
Согласно обычному представлению, фабричное производство основывается на применении труда широких масс неквалифицированных рабочих. Действительно, в таком духе заявила о себе фабрика на первых порах своего существования. Смена мануфактуры фабрикой сопровождалась именно обесценением квалификации и созданием армии необученного пролетариата. Доступ в капиталистические мастерские получили не только женщины, но и дети, старики, калеки и даже психически больные. Но теперь наблюдается явление противоположного порядка. Новейшая техника, в своем поступательном развитии, сделала для собственников усовершенствованных машин эксплуатацию неквалифицированного или малоквалифицированного труда невозможным. Малоквалифицированный труд, труд стариков, женщин и детей в ее рамках (в рамках новой, «вполне автоматической» фабрики) применения не находит. Женский и детский труд, правда, был первым словом капиталистической утилизации машин, но не ее последним словом. Чтобы пускать в ход или останавливать систему машин или аппаратов, необходимо общее знакомство с механикой, то есть требуется высокообученный труд. Далее, начиная и оканчивая каждый производственный процесс, приходится считаться с технологическими свойствами вырабатываемого продукта, и, следовательно, нужны специальные технологические познания и опытность»[5].
Отсюда дифирамбы буржуазных публицистов и экономистов в честь квалификации. Высокая выучка рабочих объявляется фундаментом благоденствия промышленности. Более того, в ней усматривают условия торжества человечества над природой и даже залог «социального мира». Представим себе, – рассуждает один из типичнейших идеологов новой буржуазии[6], – что все мировое производство осуществлялось бы посредством простого вращения различных машин или немногих механических движений руки: таким путем работа человечества была бы чрезвычайно упрощена, но вместе с тем становилось бы невозможным «господство над материей». Ибо о господстве над материей нельзя говорить там, «где о ней ничего не знают», оно может быть лишь при «сознательной утилизации» ее. Люди в подобном идеальном состоянии оказались бы не господами, а рабами производства. Тайны функционирования машин были бы от них скрыты, и при малейшей неточности мирового машинного механизма они очутились бы в беспомощном положении. «Этот утопический пример должен нам показать, как необходим обученный труд, если желательно оставаться господами производства. Труд должен быть возможно более обученным, то есть квалифицированным». Поэтому громадное значение имеет вопрос: растут или уменьшаются кадры квалифицированных рабочих? И великую опасность представляет наличность «необученной» резервной армии в отдельных производствах. Но можно утешить себя: технический прогресс действует в желательном направлении: он порука тому, что будущее принадлежит «квалификации».
Далее, обладание квалификацией отнимает, – по мнению адвоката новейшей фабрики, – почву у «материалистического отношения» к работе. Работа, в глазах людей, не знакомых с техническими секретами производства, является чем-то чрезвычайно неинтересным и, следовательно, неприятным, даже тяжелым. Квалифицированный рабочий напротив, чувствует себя в фабричном зале очень хорошо: изучивши механизм и ход машин, он не считает последних своими врагами и поработителями, так как «управляет» ими. Ему доступна «радость выполнения»[7]. А радость выполнения делает его миролюбиво настроенным по отношению к предпринимателю и устраняет возможность острых классовых конфликтов.
В силу вышесказанного рабочему вменяется в обязанность чтить интересы техники выше всего и во всех своих действиях исходить из соображений, подсказанных этими интересами. Кто же поступает вопреки «верховному принципу промышленности», кто подымает свой голос в защиту каких-нибудь требований «материалистического» характера, предъявляемых, например, «малоуспевающими» рабочими, тот получает наименование беспочвенного и зловредного политикана.
«Малоуспевающие», неудовлетворяющие требованиям высокой квалификации, подлежат удалению из стен новой фабрики. В рамках каждого отдельного предприятия, обставленного согласно последнему слову техники, и каждой отдельной профессии, численность рабочего персонала сокращается. Десятки и сотни заменяются единицами. Масса исчезает. И над поредевшими рядами представителей физического труда начинает очень заметно расти пирамида «промежуточных организаторских звеньев» – средних и высших техников, должностных лиц»[8].
Вот то, что следует рассматривать в конечном итоге как «определяющее основание», как «Bestimmungsgrund» переворота, совершающегося ныне на идеологических «высотах». Новая фабрика ведет длительный упорный поединок со старыми капиталистическими организациями. Этот поединок для буржуазного мира, взятого в целом, имеет значение далеко не частного, чреватого последствиями, лишь для ограниченной группы лиц эпизода. Он раскалывает всю буржуазию на два лагеря – на защитников старого и нового капиталистического строя. Pro и contra новых экономических веяний высказываются не только непосредственные вожди промышленности, но и различнейшие представители интеллигентных профессий: ученые всех цехов, начиная с политико-экономов и кончая естествоиспытателями, философы и юристы, священнослужители и поэты. Каждый из них при этом говорит на своем особом языке для выражения своих симпатий или пользуется узаконенными его профессией символами и образами.
О чем же, ближе определяя, должен вторить разноязычный хор идеологов новой буржуазии?
Победа новой фабрики над противником обусловлена ролью, которую играет квалификация. Двери капиталистических организаций открываются перед широкой массой. Таковы два основные явления, которые должна подчеркнуть идеология. И последняя разрешает свою задачу, выступая с проповедью индивидуализма и отрицательного отношения к толпе.
Культивируется идеал личности, обладающий высокими духовными дарованиями, способной к безусловному самоопределению, презирающей «толпу», стремящейся «вдали от толпы» воздвигнуть прочное здание собственного благополучия. «Аристократ духа» противопоставляется серенькой пошлой «мещанской» массе, каста немногих – демосу. Получается столь решительный апофеоз «квалификации» (но не квалифицированных рабочих, заметим в скобках), с каким мы хорошо знакомы по приснопамятным дням романтизма. В чисто буржуазной атмосфере зарождаются «аристократические» мотивы.
Дело доходит даже до преклонения перед форменной аристократией. Возникают такие теории, как ницшеанство. «Каждое возвышение типа «человек» было до сих пор делом аристократического общества, и так будет всегда», – гласит категорическая формула автора «По ту сторону добра и зла». Европейское общество разлагается, согласно воззрению Ницше, потому что в нем пали социальные, сословные перегородки и происходит смешение всех и всего. Необходим «пафос расстояния», коренное различие общественных групп, длинная лестница рангов и рабство в том или ином смысле. Необходимо, чтобы была «господствующая каста», которая смотрела бы на других как на подданных и на орудия. Необходимо «постоянное упражнение в приказывании и послушании». Только при этих условиях становится возможным стремление души к непрерывному самосовершенствованию, «образование все более и более высоких, редких, утонченных, содержательных состояний, короче, возвышение типа «человек», дальнейшее «самоопределение человека». Великим несчастьем для Европы явилась французская революция XVIII века, погубившая аристократию, послужившая источником демократического движения, которое равносильно вырождению человечества. И взоры Ницше постоянно с любовью обращаются назад: прошлое дало целый ряд ярких примеров господства аристократических групп. В качестве таковых Ницше отмечает историю древне-греческих городов, ренессанс и ту изобретенную его воображением эпоху, когда «люди с еще естественной природой («mit einer noch naturlichen Natur»), варвары в любом страшном смысле этого слова» напали на более слабые и миролюбивые расы и сделались неограниченными владыками их.
Судя по подобным заявлениям, можно было бы, пожалуй, причислить Ницше к лагерю идеологов самой аристократии. Но сделать это им не позволяет одно важное обстоятельство. Автор «По ту сторону добра и зла», восхваляя преимущество аристократии, приводит основание, определившее, характер его социальных .симпатий: он ценит аристократию не самое по себе, не просто как определенную общественную группу, к которой он питает какое-то органическое пристрастие; нет, пристрастие его к ней, так сказать, «вторичного» происхождения. «Благородная каста в начале всего была кастой варваров: ее преобладание коренилось прежде всего не в физической, а в духовной силе, – это были более цельные люди». Они обладали еще крепкой волей, не знающей никаких колебаний. Другими словами, аристократия пользуется расположением немецкого философа постольку, поскольку последний видит в ней носительницу известных психических качеств, поскольку ее представители воплощают, по его мнению, идеал сильных, способных к внутреннему самоопределению и развитию личностей. Налицо мотивы, возвращающие нас к рассуждениям о «квалификации». Или возьмем пример из области художественной литературы. А. Чехов – писатель, заподозрить которого в «органическом» пристрастии к аристократии никак нельзя. Между тем, в «Вишневом саде» по части аристократических «симпатий» дело обстоит не совсем благополучно. Правда, дается картина ликвидации помещичьего хозяйства, правда, автор показывает полнейшую неприспособленность «феодалов» к новой жизни, их «материальное» и духовное банкротство. Но при всем этом безусловно отрицательного, враждебного отношения к бывшим господам исторической сцены автор не обнаружил. Напротив, его произведения в общем представляют собой элегию по отживающей старине[9]. «Аристократическая» жизнь некогда начиналась иначе. Стало быть, есть, что пожалеть. Пусть «аристократы» сегодняшнего дня, аристократы эпохи заката своей цивилизации не выдерживают ни малейшей критики, пусть поэтому почва для симпатий к «аристократии» исчезает, – но она исчезает не без некоторого небольшого остатка. Дело ограничивается легким намеком, прочувственной слезой.
II
Общеизвестно пристрастие, которое романтическая литература прошлого питала ко всему туманному, темному, разрушающемуся, к могилам и смерти. Новейшая литература страдает этим пристрастием отнюдь не в меньшей степени. И вот готово возражение против защищаемого нами взгляда.
Вы утверждаете, могут сказать нам, что новейшая литература – продукт капиталистической буржуазной среды, то есть среды, развивающейся, имеющей перед собой известное будущее. Между тем, мрачные, «могильные», пессимистические настроения являются всегда, как удостоверяют социологические исследования, достоянием общественных групп, обреченных на дегенерацию и гибель. Следовательно, ваш тезис в корне ошибочен: «могильное» художество надо вернуть по принадлежности. «Благородная каста» отживает свой век, и естественно видеть в «туманном» и «могильном» воображении художников отзвук неблагоприятствующего ей фатума. На это мы ответим нижеследующим образом.
Без сомнения, всякий класс, потерпевший «на жизненном пиру» неудачу, должен пользоваться черными тонами для своих идеологических построений, но отсюда еще не вытекает, чтобы «мрачная» идеология была монополией только такого рода классов. «О тьме», «туманах», могилах я смерти могут говорить представители класса, вовсе не думающего в данный момент погружаться во мрак «ничтожества» или «небытия», а, напротив, занимающего или собирающегося занять «на жизненном пиру» первое место. Конечно, тот, кому улыбается счастье, во станет рядиться при обычных условиях в траур, а предпочтет праздничные одежды. Но возможны ли иного сорта случаи. «Могилы» и «смерть» могут для известной общественной группы сыграть роль символов, указывающих на путь, по которому она приближается к победе. С таким именно случаем мы и имеем сейчас дело.
Чем представляется смерть новейшим художникам слова? Актом уничтожения, и только? Нет.
Поучительный комментарий к культу смерти, исповедуемому ими, дает, например, стихотворение г. Мережковского «Двойная бездна».
…Жизнь, как смерть, необычайна…Есть в мире здешнем мир иной;Есть ужас тот же, та же тайна —И в свете дня, как в тьме ночной.И смерть и жизнь – родные бездны.Они подобны и равны,Друг другу чужды и любезны,Одна в другой отражены.Одна другую углубляет,Как зеркало, а человекИх соединяет и разделяетСвоею волею навек.И зло и благо – тайна гробаИ тайна жизни – два пути —Ведут к единой цели обаИ все равно, куда идти.Смерть, вопреки обычному воззрению, объявляется равноценной жизни, ставится, так сказать, на одну точку с последней. Между ними далее констатируется некоторая интимная и таинственная связь. Связь эта ближе определяется так:
Будь мудр, – иного нет исхода.Кто цель последнюю расторг,Тот знает, что в цепях – свободаИ что в мучении – восторг.Ты сам – свой бог, ты сам – свой ближний,О, будь же собственным Творцом,Будь бездной верхней, бездной нижней,Своим началом и концом.В мучении – восторг; в смерти – жизнь. Смерть квалифицируется как источник жизни. Именно в качестве такого она и воспевается современными поэтами. Находите в смерти жизнь! – гласит та глубочайшая мистическая мудрость, жрецами которой они себя выставляют.
Госпожа Гиппиус[10] описывает электрический снаряд согласно правилам названной мудрости:
Две нити вместе свиты,Концы обнажены.То «да» и «нет», – не слиты,Не слиты – сплетены.Их темное сплетеньеII тесно и мертво,Но ждет их воскресенье,И ждут они его.Концов концы коснутся —Другие «да» и «нет».II «да» и «нет» проснутся,Сплетенные, сольются,И смерть их будет – Свет.Та же «мудрость» диктует Федору Сологубу[11] следующее объяснение происхождения жизни:
Вся она, в гореньи трупа,мной замышлена была.Это я из бездны мрачнойвихри знойные воззвал,И себя цепями жизнидля чего-то оковал.И среди немых раздолий,Где дарил седой хаос,Это я своею волейЖизнь к сознанию вознес.Понятно, что при столь высокой оценки смерти пребывание в гробу оказывается для «мудрецов» столь же привлекательным, как жизненные наслаждения. «Все равно – умереть или жить». Смерть – это то же «бытие» и вдобавок еще, употребляя выражение Ф. Сологуба, «несказанное». «Мудрецы» даже готовы зачастую предпочитать ее жизни.
Мечтатель, странный миру,Всегда для всех чужой,Царящему кумируНе служит он хвалой…Он тайной завесилСтрастей своих игру, —Порой у гроба веселИ мрачен на пиру…(Федор Сологуб)Все, так или иначе свидетельствующее об отсутствии жизни или о сокращении ее, служит «мудрецам» материалом для бесконечных песнопений. С пафосом восхваляются «бесплодные» пустыни и «бесплодные» моря, «вечно немые цветы», «молчание» далекого неба, тишина болот, тьма во всех видах, всевозможные руины, наконец, уродства живых организмов, страдания и болезни.
Увечье, помешательство, чахотка,Падучая и бездна всяких зол,Как части мира я терплю вас кротко,И даже в вас я таинство нашел.(К. Бальмонт)Ставится точка, над «и»: новооткрытое «таинство» санкционируется как нечто, имеющее безусловно положительную ценность: «Чума, проказа, тьма, убийство и беды… благословляю вас, да будет счастье с вами!»
Появляются специалисты по части проповеди подобного «таинства». И первый из них, бесспорно, сан общепризнанный, фаворит читающей публики – «Л. Андреев. «Да. Я нашла, я знаю теперь, что я буду делать, – восклицает Маруся в заключительной сцене драмы «К звездам». Я построю город и поселю в нем всех старых… всех убогих, калек, сумасшедших, слепых. Там будут глухонемые от рождения и идиоты, там будут изъязвленные язвами, разбитые параличей. Там будут убийцы»… Одним словом, там будет налицо все, что некогда благословил автор «Горящих зданий». «И царем города я поставлю Иуду и назову город «К звездам». Благодарнейшая тема для форменной мистерии: из города мертвых должно начаться восхождение человечества к «горным высям». Л. Андреев постоянно возвращается к этой теме. Но при разработке ее в других своих произведениях он менее рельефно подчеркивает «конечные цели» своих экскурсий в царство «тления и праха» или же вовсе умалчивает о них. Так горние выси не упоминаются во «Тьме». Герой его ограничивается лишь дифирамбической частью проповеди «таинства». «За нашу братию! – произносит он тост перед толпой проституток. – За подлецов, за мерзавцев, за трусов, за раздавленных жизнью! За тех, кто умирает от сифилиса»… Перечисляются, сообразно сюжету и обстановке рассказа, несколько иные персонажи, чем в реплике Маруси; но суть дела от этого не меняется. Речь идет все о тех же представителях «сокращенной» жизни. Трус или подлец в глазах Петра, ценящего в жизни прежде всего и исключительно борьбу, как раз являются наиболее ярким отрицанием жизненной энергии.
«Тьма» в свое время вызвала массу толков и комментариев. Переворот, совершившийся с Петром, казался столь неожиданным и парадоксальным, что даже наиболее благосклонные к Д. Андрееву критики пожимали плечами и заявляли: да, на этот раз Л. Андреев погрешил против художественной правды. Несостоятельность занятой автором позиции пытались доказать, разбирая моральные рассуждения, которыми оправдывается в рассказе «бегство от жизни». Но не в этих рассуждениях центр тяжести вопроса. «Если нашими фонариками не можем осветить всю тьму, так погасим же огни – и все полезем во тьму» – силлогизм, который может быть правильно понят только в том случае, когда мы понятию «тьма» придадим специфическое модернистское значение. Погружение его во «тьму» знаменует собой не отказ от «света», а стремление к последнему: «свет» должен непременно воссиять из «тьмы». Употребление же местоимения «весь» (всю тьму, все полезем) подчеркивает лишь безусловную необходимость постулируемого акта. Чем больше «тьма», чем многочисленнее ряды погасивших «фонарики», тем лучше, тем ближе к свету, к «звездам»! Апология «тьмы» вложена в уста революционера: в этом собственно пикантность рассказа. Но ничего неожиданного это обстоятельство не должно было представлять собой для почитателей и знатоков андреевского искусства. «Тьма» в миросозерцании Л. Андреева играет такую роль, что перед нею, действительно, меркнут все «фонарики». Она выставляется им как единственное положительное средство, помогающее бороться с настроениями жизни.
Вопрос о «тьме» занимал его еще тогда, когда он писал свою «Мысль». «Я не раскаиваюсь, – читаем мы в исповеди Керженцева, – что убил Савелова, я не ищу в каре искупления греха, и если для доказательства того, что я здоров, вам (судьям) понадобится, чтоб я кого-нибудь убил с целью грабежа – я с удовольствием убью и ограблю. Но в каторге я ищу другого – чего, я не знаю еще и сам. Меня тянет к этим людям какая-то смутная надежда, что среди них, нарушивших ваши законы, убийц, грабителей, я найду неведомые мне источники жизни и стану себе другом». Нас не должно здесь вводить в заблуждение упоминание о законах. Не протест против них диктует доктору Керженцеву его оценку каторги. Что такое убийцы для Л Андреева, мы знаем из разъяснений, сделанных Марусей. Убийство, как и сумасшествие или паралич, для него, прежде всего, одна из возможностей «сокращения» жизни. Каторга тянет его к себе именно в качестве среды, где царствует «тьма». И «тьма» прямо называется здесь источником жизни. В восемнадцатом отрывке «Красного смеха» приведено письмо одного офицера. «Только теперь я понял великую радость войны, это древнее первичное настроение убивать людей… Вечно отнимать жизнь – это так же хорошо, как играть в лаун-теннис планетами и звездами. Бедный друг, как жаль, что ты не с нами и принужден скучать в пресноте повседневщины. В атмосфере смерти ты нашел бы то, к чему вечно стремился своим беспокойным благородным сердцем. Кровавый пир – в этом несколько избитом сравнении кроется сама правда». Обращаем внимание на подчеркнутую фразу: смерть квалифицируется как нечто, долженствующее служить целью стремлений человека, не примирившегося с современным укладом общественной жизни, целью стремлений «борца против мещанства». Другими словами, отмечается, что проблема смерти или «тьмы» имеет для автора «универсальное» значение, значение вопроса, выдвигаемого общим процессом развития жизни, а не возникающего в отдельных исключительных случаях – в мозгу людей особой психической конструкции – и не представляющего чисто психологического интереса. Вместе с тем, приведенная цитата из «Красного смеха» освещает еще одну сторону модернистского учения о «сокращении» жизни. Репликами Маруси и Петра устанавливается желательность и необходимость «погружения во тьму». Затем, на примере Петра, показывается, как можно реально осуществить процесс этого погружения. Но образ действия, точнее, бездействия Петра отнюдь не единственная возможность достигнуть желаемого.
В «Красном смехе» рекомендуется более активная тактика. Приближаться «к источнику жизни» можно, создавая «атмосферу смерти» путем личной инициативы, всюду сея вокруг себя «тьму». Андреевские герои договариваются до идеи чуть ли не поголовного истребления человечества.
«Мне хочется, – признается лицо, от имени которого ведется рассказ, – сжечь их (имеются в виду все люди) дома, с их сокровищами, с их женами и детьми, отравить воду, которую они пьют; поднять всех мертвых из гробов и бросить трупы в их нечистые жилища, на их постели… О, если бы я был дьявол! Весь ужас, которым дышит ад, я переселил бы на их землю»… Л. Андреев спешит сделать оговорку: он заставляет своего героя, высказывающего подобные мысли, воскликнуть: «Да, я должен сойти с ума!» В наиболее прямолинейной, в наиболее энергичной форме апологию всеобщего истребления развивает сумасшедший доктор. Он грозит собрать толпу солдат, не вынесших ужасов войны и потерявших рассудок: «Я выйду в поле, я кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих рыцарей без страха и объявлю войну всему миру. Веселой толпой, с музыкой и песнями мы войдем в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно, там все будет кружиться и плясать, как огонь… Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать и грабить и жечь. Веселая, беспечная ватага храбрецов, мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха – мы попляшем на развалинах. Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими – всех тех, кто еще не сошел с ума; и когда, великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром… какой веселый смех огласит вселенную!..» Будет достигнуто идеальное «сокращение» жизни… в мечтах психически-ненормального человека, скажете вы? Нет! В мечтах последовательного теоретика «модернизма».