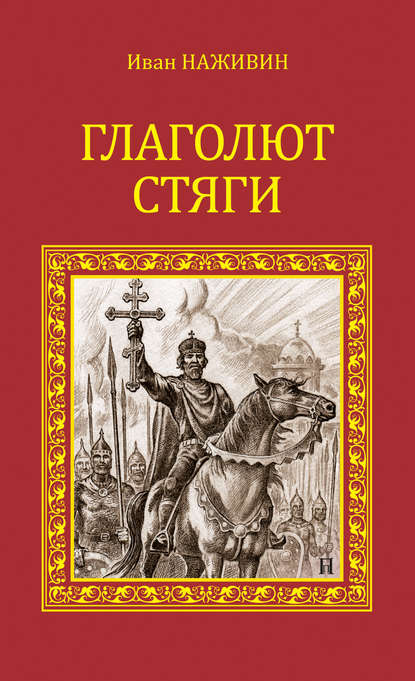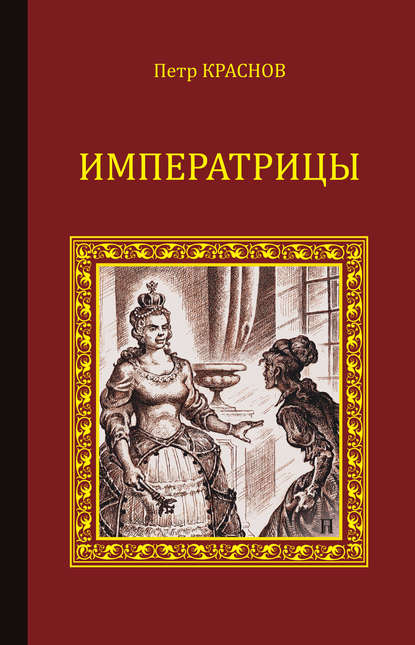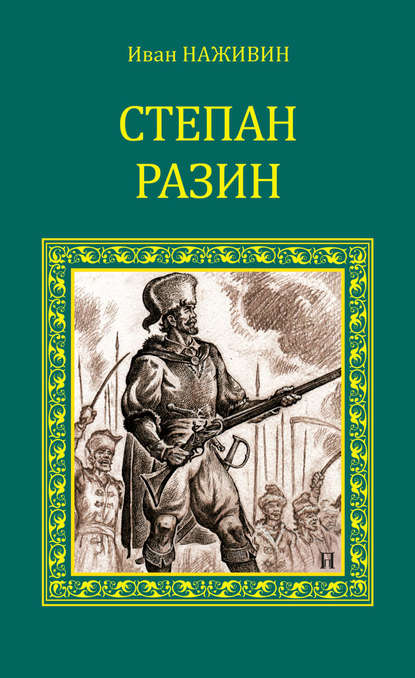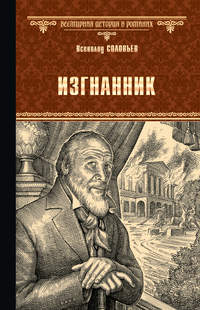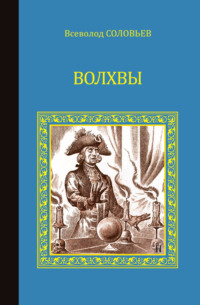Полная версия
Юный император
Вечером, после катания, великая княжна позвала брата к себе и заперла дверь.
– Что ты так скучна, Наташа? – спросил император.
– Ах, нездорова я, Петруша, очень нездорова, да и не одно нездоровье… – печально проговорила она.
– Что такое? Обидел разве тебя кто-нибудь? Скажи только!
– Ты меня обижаешь, братец…
– Чем? Наташенька? Помилуй! Я так люблю тебя, как я мог тебя обидеть?!
– Любишь-то ты меня любишь, – тихо ответила Наталья, – а все Лизу любишь больше меня, я это хорошо вижу.
– Ах, Наташа, – краснея, выговорил Петр, – ах, Наташа, зачем ты мне говоришь это? Лиза никогда тебе помешать не может. Все мое сердце принадлежит тебе, и я люблю тебя как сестру, как мать родную!.. Люблю и Лизу, только то совсем другое дело… Посмотри, какая она красавица, как ловка, весела, мне так ужасно хорошо и весело с нею… Но никогда, никогда я тебя для нее не забуду!
Великая княжна грустно улыбнулась.
– Забудешь, скоро забудешь! – странным голосом проговорила она и махнула рукою.
Петр подбежал к ней, стал перед ней на колени, прижался к ней головою, обнял ее и глядел так ласково, так любовно и смущенно.
– Петруша, голубчик, – начала Наталья, – если ты очень меня любишь, так послушайся моего совета.
– Я всегда тебя слушаюсь, – заметил император.
– Нет, не всегда; ты не верь Лизе, не верь, она обманщица, она тебя не любит, она только шутит да смеется над тобою, смотрит на тебя как на маленького мальчика, а ты и невесть что думаешь.
Петр поднялся на ноги и вытянулся во весь рост перед сестрой. Лицо его вдруг сделалось серьезным и важным.
– Во-первых, я вовсе не маленький мальчик, – резко выговаривая каждое слово, начал он, – посмотри на меня, какой я мальчик? Потом, сестрица, потом, знаешь ли… ведь вот у меня есть невеста княжна Мария. Она старше Лизы; она в тысячу раз ее хуже, а все же невеста! Ну, этой невесты скоро не будет, мне нужна будет другая, потому что мне никак нельзя без невесты – это говорит и Андрей Иванович, – у императора должна быть невеста! Так скажи мне сама, какую же невесту можно найти мне лучше Лизы? Ведь это еще до смерти бабушки сам Андрей Иваныч придумал, а он такой добрый, умный, ученый – он дурного да глупого не придумает.
«Ах, Андрей Иваныч, Андрей Иваныч, и ты стал хуже врага!» – подумала про себя царевна Наталья.
– Послушай, – обратилась она к брату, – Андрей Иваныч умен, да, но только ведь и у умного человека бывает затемнение в рассудке. Хорошо он придумал, а выходит все же совсем дурно. Он немец, Андрей Иваныч, а мы русские, православные, он забыл, что грешно жениться на родной тетке: Бог не велит, церковь не разрешает.
– Это пустое! – нахмурив брови, сказал Петр и стал в волнении ходить по комнате. – Это пустое! Ради блага государства, ради неотложной нужды и Бог, и церковь разрешают. Ведь и немцы не идолопоклонники же, а у них такие женитьбы зачастую бывают.
– Нехорошо, нехорошо ты это говоришь, братец, никакой тут нужды неотложной нет, и никакого добра из этого не выйдет. Как перед Богом говорю тебе, выбрось это из мыслей, не думай об этом, не должно этому статься!
Петр молчал несколько мгновений. Наконец он обернулся к сестре.
– Видишь что, Наташа, – твердым голосом сказал он, – ты все это говоришь, потому что тебе кажется, будто я люблю Лизу больше, нежели тебя, и что если б она стала моей женою, так я тебя забыл бы совсем. Но ради Бога, Наташа, не думай об этом… Если б только могло случиться (опять яркая краска залила его щеки), если б было это так, кажется, счастливее меня не было бы на всем свете человека – у меня бы и сестра дорогая, и жена были бы… И никогда Лиза не может мне помешать любить тебя, да и она вовсе не хочет того, она сама тебя любит. Не говори дурного про Лизу; ты такая умная, такая добрая, зачем же ты хочешь злою сделаться, несправедливою? Сама меня учишь быть справедливым, так пример мне покажи. Во всем буду тебя слушаться, все для тебя сделаю, а Лизу не тронь, Лиза сама собою!..
И Петр, нежно поцеловав сестру, вышел от нее. Опять горько и безнадежно заплакала великая княжна Наталья.
V
Дни проходили за днями – император все веселился. Некому было стеснять его: далеко, в своем Ранбове, лежит на постели больной и умирающий Александр Данилович. Один человек только и остался, который мог бы стеснить веселье, – это Андрей Иванович Остерман. Но Андрей Иванович не стесняет императора; он говорит, что после учения, в летнюю пору, отдохнуть нужно, повеселиться, лишь бы забавы не мешали делу, лишь бы не очень уж долго они протянулись. Следовательно, можно веселиться с чистою совестью: даже Александр Данилович наказывал слушаться Остермана. Другие близкие люди ни в чем не перечат императору. Иван Долгорукий каждый день придумывает новые забавы: то охоту устроит, то катание с музыкой и песнями, то во дворце или под фонтанами машкараду.
Цесаревна Елизавета – душа этого веселья; дни проходят как радостный сон, и только жалко, что скоро так идут они и что времени удержать невозможно. Одной сестрице Наташе не по себе – все грустна она, иногда по целым дням из своих покоев не выходит, но сестрица Наташа нездорова; вот поправится – хорошие доктора ее лечат, – поправится и снова станет веселою.
Каждый день ездят гонцы в Ранбов и из Ранбова. Сначала князю все было хуже, но вдруг полегчало.
– Не умрет еще, поди, чай, выздоровеет – что ему делается! – толкуют придворные.
И действительно, князь выздоровел. Петр было поехал как-то к нему, да на дороге в Ранбов его самого встретил. Несмотря на доброе сердце, не мог не подосадовать император, и если ему тяжело и неловко было смотреть на слабого, умиравшего Меншикова, то теперь на здорового он глядел положительно с враждою.
«Пусть только опять за старое примется, пусть только, – думал он, – я покажу ему, что со мной трудно тягаться!»
Случай показать это скоро представился.
Меншиков едва появился в Петергофе, сейчас же и потребовал отчета во всем, что произошло во время его болезни. Он, очевидно, забыл историю с девятью тысячами червонцев или рассудил, что не стоит придавать ей большого значения, что это только была мимолетная вспышка и от нее ничего не осталось. Он призвал к себе царского камердинера и спросил его, куда истрачены три тысячи рублей, данные для мелких расходов императора. Камердинер начал высчитывать, но недосчитался нескольких сотен и объявил, что выдал их императору по его приказу.
Меншиков разбранил камердинера, прогнал его и велел ему немедленно убираться из Петергофа. Камердинер кинулся к императору, повалился ему в ноги и умолял заступиться за него перед князем. Петр только и желал чего-нибудь подобного и ухватился за возможность показать себя Меншикову. Он призвал его к себе и встретил так, что князь опять почувствовал возвращение своей лихорадки. Все кончилось тем, что камердинер был возвращен.
Дня через два опять повторилась подобная сцена.
Петр потребовал у Меншикова пятьсот червонцев.
– Зачем? – спросил Меншиков.
– Надобно! – резко ответил Петр.
Александр Данилович ничего не возразил и велел выдать червонцы. Петр сейчас же снес их к царевне Наталье в подарок.
– Вот как я его учу, – сказал он ей, – небось теперь он их у тебя не отнимет!
Но каково было изумление императора, когда через час какой-нибудь сестра объявила ему, что Александр Данилович отобрал у нее эти червонцы.
– Где он, где он, этот Меншиков? Подайте мне его сейчас же, где он? – задыхаясь от волнения и гнева, кричал император.
Меншикова не было. Он только что уехал к себе в Ранбов.
Петр хотел было немедленно за ним ехать, но потом рассудил иначе.
– Слишком много для него чести, – сказал он. – Сейчас послать гонца и вернуть его! Сказать ему, что я должен его видеть, чтоб он возвратился немедленно.
Меншиков вернулся в страшном раздражении.
– Что это значит, Ваше Величество, – сказал он, входя к императору, – что ты меня с дороги ворочаешь? Дел важных никаких нет, уезжая, я решил все, а я устарел, чтобы ты так помыкал мною.
– Не я тобой помыкаю, а ты мной помыкать хочешь, – заметил ему Петр. – Ты, верно, забыл, что я говорил тебе, ты забыл, что обещал мне исполнять мои приказания и не перечить моим распоряжениям. Я подарил сестре моей пятьсот червонцев, и ты опять осмелился отнять их, что же это, наконец, такое?
– Но, Ваше Величество, рассуди…
Петр перебил его. Он топнул ногою и, сказав: «Я тебя научу, я тебе покажу, что я император и что мне надобно повиноваться!» – вышел из комнаты.
Он не хотел видеть Меншикова, не хотел о нем слышать. Светлейший не знал, что ему делать. Ему ясно было, что много неладного совершилось во время его болезни: Петр приучился к свободе, к тому же и враги княжеские, очевидно, сумели вооружить его против будущего тестя.
«Ведь что ни человек, то враг мне лютый! – думал Меншиков. – Что же это такое? Ведь этак они в самом деле спихнут меня – беда! И не на кого положиться… Надеялся я, что Остерман за меня… Ведь вот писал он, все писал, что следит за императором, писал, что император радуется моему выздоровлению, – много писал, а может, самый этот Остерман и есть лютейший враг мой! На кого положиться? Вот оно, последнее письмо его… ишь как расписывает… “Вашу высококняжескую светлость всепокорнейше прошу о продлении Вашей высокой милости и, моля Бога о здравии Вашем, пребываю с глубочайшим респектом Вашей великокняжеской светлости всенижайший слуга А. Остерман”. Хорош слуга! Хорош друг! Вот и Петр приписывает: “И я при сем Вашей светлости, и светлейшей княгине, и невесте, и своячице, и тетке, и шурину поклон отдаю любительный. Петр”. Но это небось сам Андрей продиктовал, чтоб глаза отвести мне. Нет, нужно добраться до Остермана, послушать, что-то он скажет, как вывернется!»
Александр Данилович вышел из дворца, спустился с пригорка и направился к домику, занимаемому Остерманом. Барон Андрей Иванович с утра не выходил из своей комнаты. Он знал, какая во дворце идет буря, его жена уже два раза приносила ему оттуда самые свежие вести. А во время бурь и волнений, очень часто им самим приготовленных, Андрей Иванович всегда сидел дома, одержимый всевозможными недугами. Он и теперь сделал вид больного человека: снял парик, надел шлафрок, спустил штору и даже поставил перед своею постелью склянку с каким-то лекарством.
Андрей Иванович занимал маленькое помещение – три бедно меблированные комнаты – и вовсе не позаботился, чтобы их украсить. Не любил он излишней роскоши, да и вообще никаких трат не любил; для него было несравненно приятнее отложить денежку в безопасное место на черный день. К такой же бережливости и скупости приучил он и свою баронессу, которая была ему верным другом, сумела окончательно войти во все интересы и планы мужа и без души его любила.
Баронесса Марфа Ивановна Остерман, урожденная Стрешнева, была сосватана Андрею Ивановичу самим Петром Великим и в несколько лет счастливой семейной жизни как-то даже по внешнему виду совсем превратилась в немецкую фрау.
Теперь она только что вернулась из Большого дворца и шепнула мужу, что сейчас там было крупное объяснение у государя с Меншиковым и что Александр Данилович спешно идет теперь к их домику.
– Поди, поди, поди на кухню! – быстро зашептал Остерман. – Как будто тебя и нету!
Баронесса скрылась, а Андрей Иванович состроил самую болезненную физиономию, лег на постель, налил себе лекарства, обернул голову мокрым полотенцем и принялся тихо стонать. Через минуту к нему входил Меншиков.
– Валяешься, болен опять, небось помрешь к вечеру? Что-то уж долго ты умираешь, с тех пор как тебя знаю. И все от болезней твоих лютых только распирает тебя во все стороны! – едва сдерживая свой гнев, начал Меншиков едва вошел.
– Болен, болен, ваша высококняжеская милость! – охая и как бы не замечая меншиковского тона, ответил Остерман, искусно выражая на своем лице невыносимые страдания. – Так голова трещит, что еле гляжу на свет божий. Вот окно занавесил, а все глазам больно.
– А небось не больно глазам и не стыдно им смотреть на свет божий, делая всякие непотребные дела? – уже не сдерживая своего гнева, возвысил голос Меншиков.
– Какие такие дела? О чем говорить изволите, ваша высококняжеская милость? Ох-ох! – простонал Остерман.
– Не знает, не понимает, скажи на милость! Андрей, ты смотри у меня, не доводи до последнего, или ты меня не знаешь?
– Ох-ох! Да толком сказывай, ваша высококняжеская милость, ей-богу, ничего не понимаю.
– Ты мне писал это письмо? – вынул Меншиков из кармана пакет.
– Я. Тут вот и приписочка есть императора.
– То-то приписочка, писать-то ты мастер! Все время меня успокаивал, уверял, что император спрашивает про меня, жалеет, желает здоровья. А что вы тут без меня наделали? Ты, я чаю, все дни турчал ему на меня!
– Боже меня сохрани и избави! – вдруг поднял голову с подушки Остерман, в некотором изумлении глядя на Меншикова. – Чтобы я мог… да зачем, скажи на милость? И откуда у тебя такие мысли берутся, ваша высококняжеская милость? Грех тебе! И, главное, одного сообразить не могу, неужто ж вы меня за малого ребенка или за дурака почитаете? Если моему сердечному расположению и респекту к себе не верите, так подумали бы о том, что сам я себе не враг. Кем же я и держусь, как не вами, ваша милость?! Ну, не приведи бог, что с вами, так ведь куда я денусь? Сотрут меня за одно то сотрут, что я с вами в ладах был, никогда не простят этого! Так ведь я все это очень хорошо понимаю, как же могу что-нибудь дурное про вас замыслить! Ох, ох… ишь голова проклятая!
Меншиков молчал в нерешительности.
«Нелегкая его знает, – думал он, – хитрый немец! Или тут взаправду другие руки действовали?!»
Так, в нерешительности и с тяжелым чувством, и вышел князь от Андрея Ивановича.
По его уходе в комнату прокралась баронесса.
– Ну что ж, Андрей Иваныч, ничего, заставил замолчать его! Я все у двери слышала.
– Да как же с ним иначе? – проговорил Остерман, снимая с головы свою повязку. – А ты вот что, мейн герцхен, обожди немного да сходи опять во дворец, узнай, когда он уедет, тогда приди и скажи мне: теперь туда надо – с вечера ведь там не был.
Андрей Иванович достал маленькое складное зеркальце и приготовил себе парик; лекарство снова вылил в склянку и сидел, дожидаясь возвращения жены. Его глаза весело смотрели, головной боли как не бывало.
VI
Двадцать шестого августа в Петергофе был большой праздник – именины великой княжны Натальи. К этому дню сюда собрались даже все придворные и сановники, остававшиеся в Петербурге. Приготовлялись разные празднества. Еще за три дня все убиралось, парк расчищался; у Монплезира готовился большой фейерверк. Еще накануне вечером князь Александр Данилович прибыл из Ораниенбаума со всем своим семейством. Петр хотел особенно весело отпраздновать день именин сестры, и только одно его смущало – она сама. Здоровье великой княжны очень плохо поправлялось; несмотря на хороший воздух, прогулки и лекарства, она все была очень бледна, задумчива, по временам кашляла. Когда Остерман спрашивал ее о здоровье, она печально качала головою и говорила ему:
– Ах, Андрей Иваныч, как же мне тут поправиться, когда сердце не на месте. Разве вы не видите, что кругом нас делается? Братец по-прежнему ласков со мною, но все же ни мои советы, ни ваши на него не действуют. Вот он теперь сдружился с Иваном Долгоруким, все на охоте с ним да с цесаревной…
Остерман не находил слов, чтобы отвечать ей на это. Он, конечно, не хуже ее все видел и понимал, но считал невозможным резко вмешиваться в дела императора и отстранить Долгоруких. Теперь одна была цель у барона Андрея Ивановича – уничтожить Меншикова, и он прямо шел к этой цели, забывая все остальное.
Рано утром торжественного дня Петр проснулся и еще в постели велел позвать к себе нового любимца, князя Ивана Долгорукого. Тот не заставил себя ждать. Это был еще очень молодой человек, лет двадцати двух, с неправильным, но довольно приятным лицом и открытыми веселыми глазами. Всегда франтоватый и даже роскошно одетый, умевший, когда надо, держать себя в высшей степени прилично и с тактом, когда надо, совершенно распускаться, понявший характер императора и в короткое время вошедший ему в душу, он, естественно, должен был играть большую роль при Петре. Он был неистощим в придумывании всевозможных развлечений и удовольствий, знал, как надо говорить с юным императором, кого хвалить, кого бранить, а главное, поддакивать и потворствовать всем капризам и желаниям своего нового друга. Петру очень нравилось, что взрослый молодой человек разделяет все его забавы, он сам при этом забывал свои годы и считал себя таким же взрослым молодым человеком. Петр развился необыкновенно быстро, и действительно никак нельзя было принять его за двенадцатилетнего мальчика. Способный и умный от природы, одаренный крепким организмом, он торопился жить и как-то вдруг провел черту, за которою остались его детство и прежний внутренний мир его. Конечно, он еще по-детски относился к забавам, но ведь его забавы были забавами взрослых людей! Он любил охоту, скачки и всякие гимнастические упражнения. Под влиянием Долгорукого он совсем иначе, чем несколько месяцев тому назад, стал смотреть на хорошеньких женщин. Теперь уже он сказал сам себе, что влюблен в принцессу Елизавету, и часто поверял об этой любви другу Долгорукому. Но это не мешало ему замечать и другие хорошенькие лица; ему нравилось, когда молодые девушки с почтительным кокетством относились к нему; ему нравилось слушать рассказы Долгорукого о всевозможных любовных похождениях, и не было никого, кто бы благоразумными рассуждениями и советами в другую сторону направлял его мысли. Остерман знал, что разыгрывать теперь роль воспитателя – значит погубить себя, и благоразумно отстранялся, стараясь только казаться воспитаннику своему добрым, ласковым, всегда снисходительным человеком.
Войдя в спальню императора, князь Иван бесцеремонно сел у самой постели Петра.
– Зачем позвал меня, государь? – спросил он.
– А вот зачем: расскажи мне, что ты придумал насчет вечернего маскарада, какие костюмы?
Долгорукий оживился:
– Да ничего нового не придумал. По-моему, хорошо так, как вчера мы решили. Ты, государь, оденешься Аполлоном, я – Марсом; цесаревна еще не решила, как ей одеться…
– Постой, погоди… Ну а сестра, говорил ты с нею? Согласна она быть Минервой?
– Великая княжна ответила мне, что если на то твоя воля, так она перечить не станет.
– Конечно, конечно, быть ей Минервой. Она как есть Минерва, моя милая Минерва!.. Ну а Меншиковы как будут одеты?
– Про то я не знаю. От меня теперь, государь, отвертываться стали. Вчера едва слова добился от Александра Данилыча.
– Ничего, ничего, пускай себе, тем для них хуже, – самоуверенно проговорил император.
Куда девался его прежний страх и почтение к Данилычу. По совету сестрицы он давно сказал себе, что «есть воля», и она действительно оказалась: Минерва, как и всегда, была права. Петр нетерпеливо дожидался того дня, когда совсем отделается от Меншикова, и решил, что день этот скоро настанет. Иван Долгорукий, часто беседовавший с ним о Меншиковых, каждый раз более и более его подзадоривал. У них еще и вчера было решено во время праздника досаждать Данилычу и его дочери.
– Любопытно, – с улыбкой заметил Петр, – любопытно, как будет одета моя невеста? То-то хороша, чай, будет! Я думаю, такой богини никогда и не бывало; на нее древние не стали бы молиться…
Долгорукий тоже одобрительно улыбался, но не настаивал на продолжении этого разговора.
«Теперь не нужно раздражать императора, – думал он, – дела и так хороши. Меншиков останется доволен сегодняшним днем».
И Меншиков остался доволен.
Ни утром, ни за столом император не обращал на него никакого внимания. Только что Александр Данилович начинал говорить с ним, как Петр поворачивался к нему спиною, не отвечал на его вопросы и делал вид, как будто совсем и нет его здесь.
– Смотрите, – на всю комнату сказал он Голицыну, – разве я не начинаю вразумлять его?
Эти слова облетели всех присутствовавших и достигли до уха светлейшего князя. Была минута, когда раздраженный и доведенный до отчаяния Меншиков просто хотел забрать своих и уехать из Петергофа. Но он одумался. Он понял, что этим ничего не возьмет, и хмурый бродил по дворцу, видя, что дела действительно плохи и что беда висит над его головою. Теперь он готов был на всякие уступки, на что угодно, лишь бы император обратил на него внимание, лишь бы подарил его ласковой улыбкой; но Петр упорно продолжал не замечать его. Всемогущий правитель государства, еще так недавно считавший себя наверху земного величия, даже со стороны теперь начинал казаться жалким: в нем клокотали и злоба, и гордость, и оскорбленное самолюбие, и страх – невольный и мучительный. Этот человек умел ладить с Великим Петром, умел обращать в самые страшные минуты грозный гнев царя в милость любящего друга, а вот теперь двенадцатилетний мальчик оказался ему не по силам!
«Да нет, этого быть не может, все это пройдет, только туча налетела, – успокаивал себя Меншиков, – разве в силах они раздавить меня! Нет, это невозможно!» Он снова гордо поднимал свою голову и презрительно оглядывался на окружающих. Взгляды многих опускались перед ним: всем было как-то неловко смотреть на него, все понимали его положение лучше, чем понимал он сам.
На бедной княгине Дарье Михайловне лица совсем не было; царская невеста, окруженная придворными женщинами, была, по обыкновению своему, ко всему равнодушна. Младшая сестра ее оказалась чем-то необыкновенно расстроенной, но ее горе было другого рода. Она поведала его своему другу, великой княжне Наталье: ее брак с принцем Ангальт-Дессауским расстроился.
Андрей Иванович Остерман всячески избегал встречаться с светлейшим князем, а при встречах строил самую умильную и печальную физиономию. Но теперь он уже не мог обмануть Меншикова: тот неопровержимо решил, что вся беда главным образом от Остермана.
– Что же это наконец, – сказал он Андрею Ивановичу, – разве это возможно, что император ни разу не подошел к моей дочери, или она ему не невеста? Чего ты смотришь, воспитатель?
– Его Величество так занят приготовлениями к вечернему празднику, так рассеян сегодня… Но я сейчас же доложу ему о легкомысленном его поведении; ваша высококняжеская милость, можешь быть спокойным, да ведь и государь-то почти ребенок еще, можно ли с него так взыскивать!..
Меншиков ничего не ответил, а Остерман подошел прямо к императору и передал ему жалобу князя. Он действительно сказал, что Петр не должен пренебрегать своими обязанностями относительно невесты, но сказал это таким тоном, что нисколько не рассердил Петра.
– Андрей Иваныч, – ответил император, – поди и скажи от меня Меншикову вот что: скажи, разве не довольно, что я люблю ее в сердце, ласки излишни, а что касается до свадьбы, то ведь Меншиков знает, что я не намерен жениться ранее двадцати пяти лет. Поди и сейчас же передай ему слова мои.
Остерман немедленно исполнил приказ императора. Меншиков позеленел от злобы.
Вечером, во время маскарада, царская невеста явилась в костюме Минервы. Это ужасно раздражило Петра, так как и великая княжна Наталья была точно так же одета.
– Смотри, – громко сказал Петр, обращаясь к Долгорукому, – у нас две Минервы, но только одна из них фальшивая!
Наконец Петр счел своею обязанностью пригласить на один танец княжну Марию Александровну. Она не сделала ему никакого замечания, никакого упрека и упорно молчала, дожидаясь, чтоб он заговорил с ней.
– Зачем вы так оделись? – спросил император. – Разве вы не знали, что у нас еще заранее было решено моей сестре быть Минервой?
– Не знала, государь, – просто ответила княжна.
– Напрасно. Или вы думали, что к вам этот наряд больше пойдет? Может быть, вам кто-нибудь и сказал это?
– Никто ничего мне не говорил, и мне решительно все равно, что идет ко мне и что нет, – тихо проговорила она.
– Это нехорошо, – засмеялся император, – ведь вы еще в старухи не записались. Вам надо быть прекрасной, хоть даже наперекор Создателю!
Вот до чего дошел Петр. Даже княжна, несмотря на все свое равнодушие, побледнела и едва не расплакалась.
– Зачем вы меня колете, государь? Если я вам не нравлюсь, оставьте меня, но я ничем не заслужила ваших насмешек!
Петр взглянул на нее: перед ним было длинное, противное ему лицо, но теперь на этом лице изобразилось чувство собственного достоинства, на глазах блестели слезы. У юного императора было доброе, славное сердце, только уж очень его раздражала, возбуждала ненависть ко всему этому семейству.
Ему вдруг жалко стало княжну, и он с откровенной, смущенной и ласковой миной попросил у нее прощения.
– Я не хотел обидеть вас, простите, – прошептали его губы.
Княжна только пожала плечами, и до конца они не сказали друг другу ни слова.