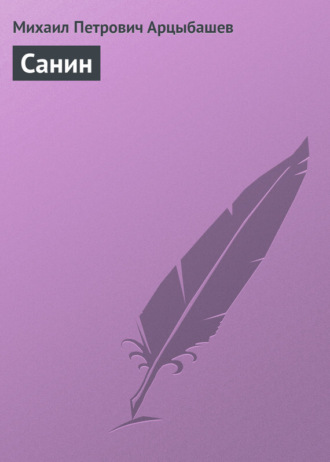
Полная версия
Санин
Потому, что его мысли теперь занимала красивая и здоровая девушка, полная радостной солнечной жизни, Юрию пришло в голову написать жизнь. Он, как всегда легко воспламеняясь, пришел в восторг от своей идеи, и ему показалось, что на этот раз он непременно справится с задачей до конца.
Подготовив большое полотно, Юрий с лихорадочной поспешностью, точно боясь опоздать, принялся за картину. Когда он клал первые мазки и на полотне были только красивые сочные пятна, все внутри его дрожало восторгом и силой, и его будущая картина во всех подробностях легко и интересно вставала перед ним. Но чем дальше подвигалась работа, тем больше и больше возникало технических трудностей, которые Юрий не мог преодолеть. То, что в воображении представлялось ему ярким, сильным и прекрасным, на полотне выходило плоским и бессильным. И уже подробности не прельщали его, а сбивали и раздражали. Юрий перестал останавливаться на них и стал писать широко и небрежно, но тогда, вместо яркой и могучей жизни, начала выясняться пестро и небрежно наляпанная, грубая женщина. В ней уже не было ничего, что казалось Юрию оригинальным и прекрасным, а все было вяло и шаблонно. И тогда Юрий увидел, что картина его неоригинальна, что он просто подражает картинам Мухи и что самая идея картины банальна.
И Юрию, как всегда, стало тяжело и грустно.
Если бы он почему-то не думал, что плакать стыдно, он бы заплакал, лег бы в подушку лицом и стал бы хныкать и жаловаться кому-то и на что-то, но не на свое бессилие. Но вместо того он угрюмо сидел перед картиной и думал, что жизнь вообще скучна, мутна и бессильна, что в ней нет ничего, что еще могло бы интересовать его, Юрия. Тут он с ужасом представил себе, что еще много лет придется, быть может, прожить тут в городке.
«Тогда смерть!» – с холодком на лбу подумал Юрий.
И ему захотелось нарисовать смерть. Он взял нож и с какой-то тяжелой для него самого злобой стал счищать свою «Жизнь». Его раздражало, что то, над чем он с таким восторгом трудился, исчезает с трудом. Краска отставала неохотно, нож мазал, соскакивал и два раза врезался в полотно. Потом оказалось, что уголь не рисует по масляной поверхности, и это причинило Юрию острое страдание. Он взял кисть и стал рисовать прямо коричневой краской, а потом опять стал писать, медленно, небрежно, с тяжелым, грустным чувством. Картина, которую он теперь задумал, не теряла, а выигрывала от его небрежности и от тусклого, тяжелого тона красок. Но первоначальная идея смерти почему-то сама собою исчезла, и Юрий рисовал уже «Старость». Он писал ее в виде изможденной, костлявой старухи, бредущей по избитой дороге, в тихие и печальные сумерки. На горизонте погасала последняя заря, и в ее зеленоватом зареве чернели кресты и неопределенные темные силуэты. На спину старухи страшной тяжестью налегал тяжелый, черный гроб и давил ее костлявые плечи. И взор у старухи был мутный, безотрадный, и одна нога ее уже стояла на краю черной ямы. Вся картина была сумеречная, грустна и зловеща.
Юрия звали обедать, но он не пошел и все писал. Потом пришел Новиков и стал что-то рассказывать, но Юрий не слушал и не отвечал.
Новиков вздохнул и улегся на диван. Он был рад молчать и думать и к Сварожичу пришел только потому, что не любил сидеть дома один. Он был грустно и мучительно расстроен. Отказ Лиды все еще давил его, и нельзя было разобрать, стыдно ли ему или грустно. Он был очень правдив и ленив и не поймал тех сплетен о Лиде и Зарудине, которые уже мутно всплывали в городке. Лиду он ни к кому не ревновал, а только страдал от разрушенной мечты, которая одно время казалась ему так близка и ярка, что он уже был счастлив.
Новиков стал думать, что все в жизни для него испорчено, но ему все-таки не приходило в голову, что если это так, то и жить не стоит и надо умереть. Наоборот, он думал о том, что теперь, когда его собственная жизнь стала одним мучением, его долг, перестав заботиться о личном счастье, посвятить свою жизнь другим людям. Он не мог отдать себе отчета, из чего это вытекает, но уже смутно решил бросить все и ехать в Петербург, возобновить сношения с партией и броситься очертя голову на смерть, мысль эта показалась ему высокой и прекрасной, а сознание того, что прекрасная, высокая мысль – его мысль, смягчило грусть и обрадовало его. Собственный образ вырастал в его глазах, окруженный милым, светлым, грустным ореолом, и невольный печальный укор Лиде чуть не заставил его заплакать.
Потом ему стало скучно. Сварожич все писал и не обращал на него никакого внимания. Новиков лениво встал и подошел.
Картина была не окончена, но именно потому и производила впечатление какого-то сильного намека. Пока это было то, чего Юрий не смог бы окончить.
Новикову картина показалась чудной. Он даже слегка разинул рот и посмотрел на Юрия с наивным детским восторгом.
– Ну что? – спросил Юрий, отодвигаясь.
Ему самому казалось, что хотя картина, конечно, не лишена недостатков и недостатки эти даже, пожалуй, очевидны и велики, но все-таки она интереснее всех картин, какие он когда-либо видел. Почему это так, Юрий не отдавал себе отчета, но если бы Новиков сказал, что картина плоха, он искренно обиделся и огорчился бы. Но Новиков тихо и восторженно сказал:
– Оч-чень хорошо!
И Юрий почувствовал себя гением, презирающим свое создание. Он красиво вздохнул, швырнул кисти, измазав угол кушетки, и отошел, не глядя на картину.
– Эх, брат! – сказал он.
Он чуть было не признался себе и Новикову в том смутном сознании, которое вырывало у него радость удачи, то есть в том, что он все равно ничего не сумеет сделать из этого удачного наброска. Но вместо того он подумал и сказал вслух:
– Ни к чему это все!
Новиков подумал, что Юрий рисуется, но сейчас же его собственная разочарованная грусть кольнула его в сердце, и он подумал: «И правда».
Но, помолчав, возразил:
– Как, к чему?
Юрий не мог точно ответить на этот вопрос и промолчал. Новиков еще немного посмотрел на картину и лег на диван.
– А я, брат, прочел твою статью в «Крае», – заговорил он опять, – здорово!..
– Ну ее к черту! – с досадой, непонятной ему самому, и припоминая слова Семенова, отозвался Юрий: – Что я ей сделаю?.. Так же будут казнить, грабить, насильничать… Тут не статьями надо действовать! Я жалею, что написал… Да и что? Ну прочтут ее два-три идиота, что из того?.. Какое мне, в конце концов, дело?.. Чего биться головой в стену, спрашивается!
Перед глазами Юрия прошли первые годы его увлечения партийной работой: конспиративные собрания, пропаганда, риск и неудачи, собственный восторг и полное равнодушие именно тех, которых он хотел спасать. Он прошелся по комнате и махнул рукой.
– С этой точки зрения и ничего делать не стоит, – протянул Новиков и, вспомнив Санина, прибавил: – Эгоисты вы все, только и всего!
– Да и не стоит, – под влиянием тех же воспоминаний и сумерек, которые начали уже бледнить все в комнате, горячо и искренно заговорил Юрий. – Если говорить о человечестве, то что значат все наши усилия, конституции и революции, когда мы даже не можем представить себе приблизительно перспектив, ожидающих человечество… Быть может, в той самой свободе, о которой мы мечтаем, заложены начала разрушения, и человек, достигши своего идеала, пойдет назад и опять встанет на четвереньки… Для того, чтобы начать все сначала?.. А если думать даже только о себе, то… то чего я могу добиться? В самом лучшем случае я могу своими талантами и делами стяжать себе славу, упиться почтением людей, еще ниже и ничтожнее меня, то есть именно тех, которых я не могу уважать, и до почтения которых, в сущности, мне и дела не должно быть… А потом жить, жить, до могилы… не дальше! И лавровый венок под конец так прирастет к лысому черепу, что даже надоест…
– Только о себе! – притворно насмешливо пробормотал Новиков. – Так!
Но Юрий не расслышал и продолжал, с грустью и болезненным удовольствием прислушиваясь к своим собственным словам, которые казались ему мрачными и красивыми и возбуждали в нем самолюбивое подъемное чувство:
– А в худшем случае, буду непризнанным гением, смешным мечтателем, объектом для юмористических рассказов… нелепым, никому не нужным…
– Ага! – с торжеством перебил Новиков и даже привстал, – «никому не нужным» – значит, ты сам сознаешь!
– Странный ты человек, – в свою очередь перебил его Юрий, – неужели ты думаешь, что я не знаю, для чего можно жить и во что можно верить!.. Я, быть может, и на крест пошел бы с радостью, если бы я верил, что моя смерть спасет мир!.. Но этой веры у меня нет: что бы я ни сделал, в конечном итоге я ничего не изменю в ходе истории, и вся польза, которую я могу принести, будет так мала, так ничтожна, что, если бы ее и вовсе не было, мир ни на йоту не потерпел бы убыли. А между тем для этой меньше чем йоты я должен жить и страдать и мучительно ждать смерти!
Юрий не заметил, что он говорит уже о чем-то другом, отвечая не на слова Новикова, а на свои странные и тяжелые чувства. Он вдруг остановился опять, внезапно вспомнив Семенова, и почувствовал, что по спине пробежало гадливое и холодное ощущение ужаса.
– Знаешь, меня мучает эта неизбежность, – тихо и доверчиво сказал он, машинально глядя в потемневшее окно, – я знаю, что это естественно, что ничего против этого я сделать не могу, но это ужасно и безобразно!
Новиков почувствовал, что это так, и ему стало грустно и страшно, но все-таки он возразил:
– Смерть – полезное физиологическое явление…
«Вот дурак!» – с бешенством подумал Юрий и с раздражением возразил:
– Ах, Боже мой!.. Да какое нам дело, принесет ли наша смерть кому-нибудь пользу или нет!
– А твоя крестная смерть!
– То другое дело, – нерешительно и мгновенно остывая, возразил Юрий.
– Ты сам себе противоречишь, – с чувством превосходства заметил Новиков, великодушно не глядя на Юрия.
Юрий поймал этот тон и весь загорелся. Он стал ворошить свои черные упрямые волосы и злиться.
– Никогда я себе не противоречу… Это вполне понятно, если я умираю сам, по своему собственному желанию…
– Все одно, – продолжал, но сдаваясь, тем же тоном Новиков, – вам всем просто хочется фейерверка, аплодисментов… Эгоизм это все!..
– Ну и пусть… это не меняет дела…
Разговор спутался. Юрий почувствовал, что действительно вышло что-то не так, и не мог поймать нити, которая еще несколько минут назад казалась ему натянутой, как струна. Он походил по комнате, сердито дыша, и, успокаивая себя, подумал, как всегда в таких случаях:
– Бывает иногда, что я как-то не в ударе… иной раз говоришь ясно, точно все перед глазами стоит, а иной раз точно вот кто-то связал во рту язык… все выходит нескладно… грубо… Это бывает!
Они помолчали. Юрий походил по комнате, постоял у окна и взялся за фуражку.
– Пойдем пройдемся, – сказал он.
– Пойдем, – согласился Новиков, с тайной надеждой и страхом и радостью думая о том, что они могут случайно встретить Лиду Санину.
IX
Они прошли по бульвару раз и другой, не встретив знакомых, и слушали музыку, по обыкновению игравшую в саду. Играла она нестройно и фальшиво, но издали казалась нежной и грустной. Навстречу им все попадались мужчины и женщины, заигрывавшие друг с другом. Их смех и громкие, возбужденные голоса не шли к тихой грустной музыке и тихому грустному вечеру и раздражали Юрия. В самом конце бульвара к ним подошел Санин и весело поздоровался. Юрию он не нравился, и поэтому разговор не вязался. Санин смеялся надо всем, что попадалось им на глаза, потом встретил Иванова и ушел с ним.
– Куда вы? – спросил Новиков.
– Угостить друга хочу! – отвечал Иванов, достал из кармана и торжественно показал бутылку водки.
Санин весело засмеялся.
Юрию и эта водка, и этот смех показались неестественными и пошлыми, и он брезгливо отвернулся. Санин это заметил, но не сказал ничего.
– Благодарю, мол, тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь! – двусмысленно усмехаясь, пробасил Иванов.
Юрий покраснел.
«Тоже… острит еще!» – подумал он, презрительно, пожал плечами и отошел.
– Новиков, бессознательный фарисей, пойдем с нами! – пристал Иванов…
– Какого черта?
– Водку пить!
Новиков тоскливо оглянул бульвар, но Лиды не было видно нигде.
– Лида дома сидит и в своих грехах кается, – улыбаясь, заметил Санин.
– Глупости, – обидчиво пробормотал Новиков, – у меня больной…
– Который умрет и без твоей помощи, – отозвался Иванов. – Впрочем, и водку мы можем выпить без твоего содействия.
«Напиться, что ли!» – с горечью подумал Новиков и сказал:
– Ну ладно… пойдем!
Они ушли, и Юрию еще долго слышен был грубый бас Иванова и беззаботно-ласковый смех Санина.
Он опять пошел вдоль бульвара. Его окликнули женские голоса. Зина Карсавина и учительница Дубова сидели на одной из бульварных скамеек. Было уже совсем темно, и из тени едва виднелись их фигуры, в темных платьях, без шляп и с книгами в руках. Юрий быстро и охотно подошел.
– Откуда? – спросил он, здороваясь.
– В библиотеке были, – ответила Карсавина.
Дубова молча подвинулась, очищая возле себя место, и хотя Юрию хотелось сесть возле Карсавиной, но было неловко, и он сел рядом с некрасивой учительницей.
– Отчего у вас такое мрачно-раздирательное лицо? – спросила Дубова, по привычке язвительно кривя свои тонкие, сухие губы.
– С чего вы взяли, мрачное? Самое веселое. А впрочем, и вправду, скучно что-то…
– Делать вам, видно, нечего, – насмешливо возразила Дубова.
– А вам есть что делать?
– Да, плакать некогда.
– Я и не плачу.
– Ну, хнычете… – шутила Дубова.
– Так уж жизнь моя сложилась теперь, что я и смеяться разучился.
В голосе его прорвались такие горькие нотки, что все невольно примолкли. Юрий помолчал и улыбнулся.
– Один мой приятель говорил мне, что жизнь моя назидательна, – сказал он, хотя никто этого не говорил.
– В каком смысле? – спросила Карсавина осторожно.
– В смысле того, как не следует жить человеку.
– А, ну расскажите. Авось и мы извлечем какую-нибудь пользу из этого примера… – предложила Дубова.
Юрий свою жизнь считал исключительно неудачной, а себя исключительно несчастным человеком. В этом было какое-то грустное удовлетворение, и было приятно жаловаться на свою жизнь и людей. С мужчинами он никогда не говорил об этом, инстинктивно чувствуя, что они ему не поверят, но с женщинами, особенно молодыми и красивыми, охотно и подолгу говорил о себе. Он был красив и хорошо говорил, и женщины всегда проникались к нему жалостью и влюбленностью.
И на этот раз, начав с шутки, Юрий легко вошел в привычный тон и долго говорил о своей жизни. По его словам выходило так, что он, человек огромной силы, заеден средой и обстоятельствами, что его не поняли в партии и что в том, что из него вышел не вождь народа, а обыкновенный высланный по ничтожной причине студент, виновата роковая случайность и людская глупость, а не он сам. Юрию, как всем людям с большим самолюбием, не приходило в голову, что это не доказывает его исключительной силы и что всякий гениальный человек окружен такими же случайностями и людьми. Ему казалось, что только его одного преследует тяжелый и неодолимый рок.
И так как он рассказывал очень красиво, живо и ярко, то выходило похоже на правду, и девушки верили ему, жалели и грустили вместе с пим. Музыка играла все так же нестройно, но жалобно, вечер был темный, задумчивый, и им всем было мечтательно-грустно. Когда Юрий замолчал, Дубова, отвечая на свои собственные думы о том, что ее жизнь скучна, однообразна и что скоро она уже состарится, не испытав счастья и любви, тихо спросила:
– Скажите, Юрий Николаевич, вам никогда не приходила в голову мысль о самоубийстве?
– Почему вы меня спрашиваете об этом?
– Так.
Они помолчали.
– Вы, значит, были в комитете? – с любопытством спросила Карсавина.
– Да, – коротко и как будто неохотно ответил Юрий, но ему было приятно признаться в этом, потому что он думал, будто это придает ему какой-то мрачный интерес в глазах красивой и молодой девушки.
Потом Юрий проводил их домой. Дорогой много говорили и смеялись, и уже не было грустно.
– Какой он славный! – сказала Карсавина, когда Юрий ушел.
– Смотри, не влюбись! – погрозила пальцем Дубова.
– Ну вот еще! – с тайным инстинктивным испугом вскрикнула Карсавина.
Юрий пришел домой в возбужденном и хорошем настроении духа. Взглянул на начатую картину, ничего не почувствовал и с удовольствием лег спать. А ночью ему снились сладострастные и солнечные картины, молодые и красивые женщины.
X
На другой вечер Юрий пошел опять на то место, где он встретился с Карсавиной и Дубовой. Целый день ему было приятно вспоминать проведенный с ними вечер, и хотелось опять встретиться, поговорить о том же и опять увидеть то же выражение участия и ласки в веселых и нежных глазах.
Вечер был совершенно ясный, тихий, жаркий. В воздухе над улицами стояла мелкая сухая пыль, и на бульваре никого не было, кроме случайных редких прохожих.
Юрий сердито тряхнул головой на досадное чувство, поднявшееся у него в груди, точно его кто-то обидел, и медленно пошел по бульвару, глядя под ноги.
«Скука какая, – подумал он, – что делать?»
Навстречу ему быстрыми шагами, помахивая свободной рукой, шел студент Шафров и еще издали учтиво улыбался ему.
– Что вы тут слоняетесь? – дружелюбно спросил он, останавливаясь и подавая Сварожичу крепкую, широкую ладонь.
– Да скучно что-то и делать нечего. А вы куда? – лениво и пренебрежительно спросил Юрий. Он всегда говорил так с Шафровым, которого, как бывший член комитета, считал наивным студентиком, играющим в революцию.
Шафров счастливо и самодовольно улыбнулся.
– У нас сегодня чтение, – сказал он, показывая пачку тоненьких разноцветных брошюрок.
Юрий машинально взял у него одну брошюрку и, развернув, прочел длинное сухое заглавие популярной социальной статьи, давно им самим прочитанной и забытой.
– Где вы читаете? – спросил Юрий с той же пренебрежительной улыбкой, возвращая брошюрку.
– В городском училище, – ответил Шафров, называя то училище, в котором служили Карсавина и Дубова.
Юрий вспомнил, что Ляля уже говорила ему об этих чтениях, но тогда он не обратил на них внимания.
– Можно мне пойти с вами? – спросил он Шафрова.
– Пожалуйста, – радостно улыбаясь, поспешно согласился Шафров.
Он считал Юрия настоящим деятелем и, преувеличивая его партийную роль, чувствовал к нему почтение, граничащее с влюбленностью.
– Я очень интересуюсь этим делом, – счел нужным прибавить Юрий, с радостью думая о том, что вечер будет занят, и о том, что можно увидеть Карсавину.
– Пожалуйста, пожалуйста, – опять сказал Шафров.
– Ну, так пойдемте.
И они быстро пошли по бульвару, свернули на мост, по обеим сторонам которого влажно пахло свежестью и водой, и вошли в двухэтажное здание училища, где уже собирались люди.
В большом, еще темном зале, установленном ровными рядами стульев и скамеек, смутно белел экран для волшебного фонаря и слышался сдержанно веселый смех. Около окна, в которое видны были потемневшее небо и верхушки темно-зеленых деревьев, стояли Ляля и Дубова. Они встретили Юрия радостными восклицаниями.
– Вот хорошо, что пришел! – сказала Ляля. Дубова крепко пожала ему руку.
– Что же вы не начинаете? – спросил Юрий, украдкой оглядывая темный зал и не видя Карсавиной. – А Зинаида Павловна не участвует? – неровно и разочарованно прибавил он.
Но в эту минуту на кафедре, возле самого экрана, чиркнула спичка и осветила Карсавину, зажигавшую свечи. Ее красивое и свежее лицо было ярко снизу освещено и весело улыбалось.
– Еще бы я не участвовала, – звонко откликнулась она, сверху протягивая Юрию руку.
Юрий обрадовано, но молча подал ей руку, и она, слегка опираясь на него, мягко соскочила с кафедры, пахнув в лицо Юрию запахом здоровья и свежести.
– Пора начинать, – сказал Шафров, появляясь из другой комнаты.
Сторож, тяжело ступая большими сапогами, прошел по залу, одну за другой зажигая большие, светлые лампы, и зал осветился ярким и веселым светом. Шафров отворил дверь в коридор и громко сказал:
– Пожалуйте, господа!
Послышалось сначала робкое, а потом торопливое топотанье ног, и в двери стали входить люди. Юрий смотрел на них с любопытством: привычный зоркий интерес пропагандиста пробудился в нем. Это были и старые, и молодые люди, и дети. В первом ряду никто не сел, и уже потом его заняли какие-то неизвестные Юрию дамы, толстый смотритель училища и уже знакомые Юрию учителя и учительницы мужской и женской прогимназии. А весь остальной зал затопили люди в чуйках, пиджаках, солдаты, мужики, бабы и много детей в пестрых рубашках и платьях.
Юрий сел рядом с Карсавиной за стол и стал слушать, как Шафров спокойно, но дурно читал о всеобщем избирательном праве. Голос у него был глухой и негибкий, и все, что он читал, приобретало характер статистической таблицы, но слушали его со вниманием, и только сидевшие в первом ряду интеллигентные люди скоро начали шептаться и шевелиться. Юрию стало досадно на них и жаль, что Шафров дурно читает. И когда студент устал, Юрий тихо сказал Карсавиной:
– Давайте я дочитаю.
Карсавина ласково, как-то сквозь ресницы, взглянула на него.
– Вот и хорошо… Читайте.
– А не неловко? – улыбаясь ей, как заговорщик, спросил Юрий.
– Где же неловко! Все будут рады.
И, воспользовавшись перерывом, она сказала Шафрову. Шафров устал и сам тяготился тем, что читает плохо, он не только согласился, но даже обрадовался.
– Пожалуйста, пожалуйста, – по своей привычке повторил он и уступил место.
Юрий умел и любил читать. Не глядя ни на кого, он прошел на кафедру и начал сильным, звучным голосом. Раза два он оглянулся на Карсавину и оба раза встретил ее блестящий и выразительный взгляд. Смущенно и радостно улыбаясь ей, он поворачивался к книге и начинал читать еще громче и выразительнее, и ему казалось, что он для нее делает какое-то непостижимо хорошее и интересное дело.
Когда он кончил, из первого ряда ему зааплодировали. Юрий серьезно поклонился и, сходя с кафедры, широко улыбнулся Карсавиной, точно хотел сказать ей: «Это для тебя!»
Публика, топоча ногами, переговариваясь и, двигая стульями, стала расходиться, а Юрий познакомился с двумя дамами, которые сказали ему несколько приятных слов по поводу его чтения.
Потом начали тушить огни, и в комнате стало еще темнее, чем прежде.
– Спасибо вам, – тепло сказал Шафров, пожимая руку Юрию, – если бы у нас всегда так читали!
Чтение было его делом, и потому он считал себя обязанным Юрию как бы за личное одолжение, хотя и говорил, что благодарит его за народ. Шафров выговаривал это слово твердо и уверенно.
– Мало у нас делают для народа, – говорил он с таким видом, точно посвящал Юрия в большую тайну, – а если и делают что, так кое-как… спустя рукава. Странно мне это, право: для увеселения скучающих бар нанимают дюжинами первоклассных актеров, певиц, чтецов, а для народа сядет читать вот такой чтец, как я… – Шафров с добродушной иронией махнул рукой, – и все довольны… Чего же им, мол, еще!
– Это правда, – сказала Дубова, – противно читать: целые столбцы в газетах посвящены тому, как чудно играют артисты, а тут…
– А ведь какое хорошее дело! – задушевно сказал Шафров и любовно стал собирать свои книжечки.
«Святая наивность!» – подумал Юрий, но присутствие Карсавиной и собственный успех сделали его добрым и мягким, и его даже немного умилила эта простота.
– Куда же вы теперь? – спросила Дубова, когда они вышли на улицу.
На дворе было гораздо светлее, чем в комнатах, хотя на небе уже затеплились звезды.
– Мы с Шафровым пойдем к Ратовым, – сказала Дубова, – а вы проводите Зину.
– С удовольствием, – искренно сказал Юрий. И они разошлись.
Всю дорогу до квартиры Карсавиной, которая вместе с Дубовой снимала маленький флигель в большом, но негустом саду.
Юрий и Карсавина проговорили о впечатлении, вынесенном из чтения, и Юрию все больше и больше казалось, что он сделал что-то очень большое и хорошее. У калитки Карсавина сказала:
– Зайдите к нам.
– Могу, – весело согласился Юрий.
Карсавина отворила калитку, и они вошли в маленький, заросший травой двор, за которым темнел сад.
– Идите в сад, – сказала Карсавина, смеясь, – я бы пригласила вас в комнаты, да боюсь: я дома с утра не была и не знаю, прибрано ли у нас достаточно для приема!
Она ушла во флигель, а Юрий медленно прошел в пахучий и зеленый сад. Далеко он не пошел, а остановился на дорожке и с жадным любопытством смотрел на открытые темные окна флигеля, и ему казалось, что там происходит что-то особенное, красивое и таинственное.
На крыльце показалась Карсавина, и Юрий едва узнал ее: она сняла свое черное платье и оделась в тонкую, с широким вырезом и короткими рукавами малороссийскую рубашку с синей юбкой.









