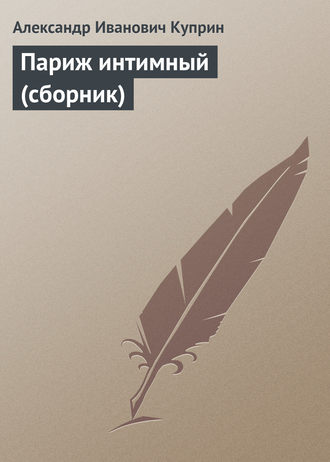
Полная версия
Париж интимный (сборник)
У нее была удивительная способность превращать кратчайшим путем замысел в дело. Она долго и внимательно расспрашивала меня о том, какие вещи могут теперь быть самыми необходимыми для рыбака, и в тот же день был ею отправлен Коле плотный пакет максимально дозволенного веса. Там были уложены две теплые морские фуфайки, несколько мотков английского шпагата разной толщины, малые крючки, чтобы ловить кефаль на самодуру, средние – для ловли на перемет камбалы и морского петуха – и самые большие для переметов на белугу, а так как оставалось еще немного пустого места, то его забили шоколадными плитками. Для отвода глаз посылка пошла как будто бы от американца Джонсона, которого Коля в 1910 году возил в лодке показывать окрестности Балаклавы. Девяносто девять шансов было за то, что посылка не дойдет. Мы надеялись на сотый.
Глава VII
Трактат о любви
Вижу, дружище, что я тебя совсем заговорил. Потерпи. Иду теперь широкими шагами к концу.
О, как много она мне дала и какой я перед ней неоплатный должник! Она была очень умна, во всяком случае, гораздо умнее меня. Но ее ум не стеснял, не подавлял: он был легок, непринужден и весел, он быстро схватывал в жизни, в людях, в книгах самое главное, самое характерное и подавал его то в смешном, то в трогательном виде: злого и глупого он точно не замечал.
В любви Мария была, мне кажется, истинной избранницей. Знаешь ли, какая мысль приходит теперь мне часто в голову? Думаю я так: инстинкту размножения неизменно подчинено все живущее, растущее и движущееся в мире, от клеточки до Наполеона и Юлия Цезаря, но только человеку, этому цвету, перлу и завершению творения, ниспосылается полностью великий таинственный дар любви. Но посылается совсем не так уж часто, как это мы думаем. Случаи самой высокой, самой чистой, самой преданной любви выдуманы – увы! – талантливыми поэтами, жаждавшими такой любви, но никогда не находившими ее.
Видишь: все мы мыслим, я полагаю, непрерывно, в течение всей жизни. Но настоящих философов человечество знает не больше десяти-двадцати. Все мы сумеем нарисовать фигуру человечка: кружок, с двумя точками-глазами, и вместо ног и рук четыре палочки. Миллионы художников рисовали немного лучше, а иные и гораздо лучше, но ведь есть пределы: никто не мог добраться до Рафаэля, Леонардо да Винчи, Рембрандта. Кто из нас не умел промурлыкать легонький мотивчик или подбирать его одним пальцем на пианино? Но наши музыкальные способности совсем не сродни гению Бетховена, Моцарта или Вагнера и не имеют с ними ни одной общей душевной черты.
Иные люди от природы наделены большой физической силой. Другие родятся с таким острым зрением, что свободно, невооруженным глазом, видят кольца Сатурна. Так и любовь. Она – высочайший и самый редкий дар неведомого Бога.
Подумай-ка. Сколько миллиардов людей с сотворения мира совокуплялись, наслаждались, оплодотворялись, размножались и занимались этим в течение миллионов лет. Но много ли раз ты слышал о большой и прекрасной любви, о любви, которая выдерживает всякие испытания, преодолевает все преграды и соблазны, торжествует над бедностью, болезнями, клеветой и долгой разлукой, о высшей любви, о которой сказано, что она сильнее смерти? И неужели ты не согласен со мною, что дар любви, как и все дары человеческие, представляет собою лестницу с бесконечным числом ступенек, ведущих от влажной, темной, жирной земли вверх, к вечному небу и еще выше?
Что? Бред, ты говоришь? Не оспариваю. Когда сидишь ночью с другом в кабачке, не грех сболтнуть лишнее. Позволь только напомнить тебе о том, что была эпоха, когда человечество вдруг содрогнулось от сознания того болота грязи, мерзости и пакости, которые засосали любовь, и сделало попытку вновь очистить и возвеличить любовь, хотя бы в лице женщины. Это средневековое рыцарство с культом преклонения перед прекрасной дамой. И как жаль, что это почти священное служение женскому началу выродилось в карикатуру, в шутотрагедию...
Но кто знает грядущие судьбы человечества? Оно столько раз падало ниже всякого животного и опять победоносно вставало в почти божеский рост. Может быть, опять придут аристократы духа, жрецы любви, ее поэты и рыцари, целомудренные ее поклонники...
Баста. Я уже говорил тебе о десяти философах. Мне все равно не быть одиннадцатым. Тем более что один из этих мудрецов очень тонко намекнул нам: «Помолчи – и будешь философом». Гарсон, бутылку белого бордо! Я хочу тебе только сказать, друг милый, что она, моя волшебная Мария, была создана богом любви исключительно для большой, счастливой, доброй, радостной любви и создана с необыкновенно заботливым вниманием. Но судьба сделала какую-то ошибку во времени. Марии следовало бы родиться: или в золотой век человечества, или через несколько столетий после нашей автомобильной, кровавой, торопливой и болтливой эпохи.
Ее любовь была проста, невинна и свежа, как дыхание цветущего дерева. При каждой нашей новой встрече Мария любила меня так же радостно и застенчиво, как в первое свидание. У нее не было ни любимых словечек, ни привычных ласк. В одном она только оставалась постоянной: в своем неизменном изяществе, которое затушевывало и скрашивало грубые, земные детали любви.
Да. Повторяю, у нее был высший дар любви.
Но любовь крылата! Ты, может быть, заметил, дружок, что на свете есть люди, как будто нарочно приспособленные судьбою для авиации, для этого единственно прекрасного и гордого завоевания современной техники? У этих прирожденных летунов как будто птичьи профили и птичьи носы; подобно птицам, они обладают неизъяснимым инстинктом опознаваться в дороге; слух у них в обоих ушах одинаков – признак верного чувства равновесия, и они с легкостью приводят в равновесие те предметы, у которых центр тяжести выше точки опоры. Для таких людей-птиц заранее открыто воздушное пространство и вверх, и вниз, и вдаль. Смелый летчик, но не рожденный быть летчиком, запнется на первой тысяче метров и потеряет сердце.
Я расспрашивал знакомых авиаторов об их ранних молодых снах. Ведь известно, что все люди во снах летают, кроме окончательно глупых. Но оказалось, что летуны по призванию летали выше домов, к облакам. Летчики-неудачники – те только с трудом отлипали от земли, а летали как бы в продолжительном прыжке. Любовь – такое же крылатое чувство. Но, сравнивая себя в этом смысле с Марией, я сказал бы, что у нее были за плечами два белоснежных, длинных лебединых крыла, я же летал, как пингвин. Вначале я очень остро и, пожалуй, даже с обидой чувствовал ее духовное воздушное превосходство надо мною и мою собственную земную тяжесть, отчего невольно – признаюсь в этом – бывал смущен и неловок и часто сердился на самого себя. Конечно, это была простая мужская мнительность; воображение то и дело подсказывало мне разные нелестные уподобления. Она бывала иногда богиней, снизошедшей до смертного, матроной, отдающейся рабу-гладиатору, принцессой, полюбившей конюха или садовника. Ах, у каждого человека в душе, где-то, в ее плохо освещенных закоулочках, бродят такие полумысли, получувства, полуобразы, о которых стыдно говорить вслух даже другу, такие они косолапые.
Но скоро все эти угловатости сгладились: так мила, так предупредительна, так нежна, догадлива была Мария, так щедра, скромна и искренна, она была в любви так радостна, она любила жизнь, и такая естественная теплая доброта ко всему живущему исходила из нее золотыми лучами.
Да, дружок, в душе моей сохранилось много, много сладких чудесных воспоминаний, заветных кусочков нашей неповторимой жизни. Это – целая книга. Перелистывая ее страницы, я испытываю жестокое, жгучее наслаждение, точно бережу рану. Мучаюсь мыслью о невозвратности времени, и в этом моя горькая утеха, мой любовный запой. Часто жалею я о том, что у меня не осталось от Марии никакой вещи: ленточки, локона волос, сухого цветка, гребенки, перчатки, платка или хоть какой-нибудь неодушевленной пуговицы. Тогда мои воспоминания были бы еще глубже, еще мучительнее и еще слаще.
Но в ту пору я глядел на такие сувенирчики презрительным оком холодного реалиста и серьезного дельца.
Да и надо – что поделаешь, – надо признаться, что нежная и страстная, кроткая и всегда радостная любовь Марии, ее трогательная ласка, ее здоровое веселье и преданность – понемногу, день ото дня, все более притупляли то мое выдуманное самоуничижение перед моей любовницей, которое раньше столь тяготило и связывало меня. Я уже не искал с жадностью ее ласк, я с удовольствием позволял ласкать себя. Вечная история с мужчинами, вообще склонными в любви задаваться.
Это я сам однажды понял и почувствовал в одно яркое мгновение. Весенним, теплым и ароматным вечером мы с Марией сидели в густой прекрасной аллее улицы Курс-Пьер-Пюже. Мы молчали. Голова Марии лежала у меня на плече. И вот она, обняв меня и прижавшись ко мне, сказала тихо и медленно, точно раздумывая и проверяя вслух свои мысли:
– Знаешь что, Мишика. Я чувствую теперь, что до тебя я никого не любила. Я хотела любить и искала любви, но все, что я узнала, – это была не любовь, а ошибка... может быть, невольная ложь перед самой собой. А теперь мне кажется, что я нашла и себя, и тебя, и ту вечную любовь, о которой мечтают все влюбленные, но которая из миллионов людей дается только одной паре.
Я не ответил. Я молча погладил ее волосы. Но в сердце у меня зашевелилось нехорошее чувство. Что это? Неужели покушение на мою свободу? Старая, знакомая, скучная песенка?
О, осел! Глупый, неблагодарный осел! Питайся теперь бурьяном и чертополохом и обливай колючки едкими слезами. Колесо времени не остановишь и не повернешь обратно.
Глава VIII
Мадам Дюран
Все течет во времени, и ко многому привыкаешь понемногу, незаметно для самого себя. Я уже чувствовал себя почти мужем Марии. Когда она бывала у меня в гостинице «Порт», нередко мы замечали, что наши мысли идут параллельно; часто мы произносили одновременно одно и то же слово; привычки и вкусы становились общими.
Низкую и обширную каюту свою с окнами в виде иллюминаторов я устроил совсем в корабельном стиле: повесил на стену большой барометр, спасательный круг и пробковый пояс; укрепил на подоконнике компас, а самый подоконник расчертил радиусами на тридцать два румба; к потолку подвесил полотняный гамак – корабельную койку. Марии очень понравилась эта затея. Мне тоже. Однако ее пристрастие ко всему морскому – признаюсь – наводило меня порою на печальные и ревнивые мысли, которые я всячески старался отгонять.
Я уже давно приучился не задавать ей лишних вопросов, признав наконец за этим правилом и такт, и мудрость, и взаимное доверие. Да, с презрительной усмешкой стал я думать об одном русском, довольно-таки распространенном обычае. Он и она, прежде того дня, когда на них возложат «венцы от камене честна», зачем-то обменивались дневниками или просто признаниями в прежних любовных прегрешениях, все равно, истинных или мнимых. О, каким жгучим средством оказывался этот письменный и устный материал потом, через год, чтобы колоть и хлестать им друг друга без пощады!
Я по-прежнему мало знал о Марии, но сама обыденная жизнь открывала мне изредка новые черты в ее загадочном существовании и в ее прекрасной душе – свободной, чистой, гордой и доброй, хотя я и до сих пор не понимаю: была ли эта душа пламенной или холодной?.. Эти проблески я могу сравнить с мгновенным щелканьем фотографического аппарата.
Какой я был дурак! Я обижался – и серьезно! – на Марию за то, что она никогда не соглашалась уснуть у меня, хотя «засиживалась» иногда до раннего солнца. «Мне надо отдохнуть, чтобы работать со свежей головой». Так однажды она мне сказала. А в другой раз ничего не ответила на мое предложение. Засмеялась, нежно-нежно меня поцеловала, назвала своим милым большим медведем и, распахнув дверь, быстро застучала каблучками по лестнице. Я едва успел ее догнать, чтобы посадить в автомобиль.
Помню еще одно утро, после долгой, блаженной ночи... Мне уже пора было ехать на завод, но я сказал легкомысленно:
– Душа моя, ведь нам очень хорошо вместе. Такая ночь, как эта, – эта самая – никогда не повторится; продолжим ее еще на двадцать четыре часа, прошу тебя.
– А твоя служба?
– Ну, мое присутствие не так уж крайне необходимо. Наконец, я могу сейчас же телеграфировать, что заболел или вывихнул ногу...
Она медленно и серьезно покачала головою:
– Зачем говорить неправду? Лгут только трусы и слабые лентяи. Тебе, большой Мишика, не идет притворство.
– Даже в шутку?
– Даже в шутку.
Это нравоучение меня немного покоробило, и я возразил со сдержанной резкостью:
– Странно. Разве я не хозяин своего тела, своего времени, своих мыслей и желаний?
Она согласилась:
– Конечно, полный хозяин. Но только до тех пор, пока не связан.
– Контрактом? – спросил я с кривой улыбкой.
– Нет. Просто словом.
По правде говоря, мне некуда было дальше идти в нашем разговоре. Но я сознавал, что она права, и потому разозлился и сказал окончательную глупость:
– А разве я не хозяин и своему слову? Хочу – держу его. Хочу – нарушу...
Она не отозвалась. Опустила руки на колена, низко склонила голову. Так в молчании протекли секунды...
С острой горечью, с нежной виноватой жалостью к ней, с отвращением к своей выходке говорил я себе мысленно в эту тяжелую минуту:
– Будь же настоящим мужчиной, стань на колена, обними ее ноги, покрой поцелуями ее волшебные теплые руки, проси прощения! Все пройдет сразу, вся неловкость положения улетучится в один миг.
Но черт бы побрал эту глупую гордость, это тупое обидчивое упрямство, которое так часто мешает даже смелым людям сознаться вслух в своей вине или ошибке. Таким ложным стыдом, фальшивым самолюбием страдают нередко крепкие, умные, сильные личности, но чаще всего дети и русские интеллигенты, особенно же русские политики.
Были моменты, когда мои нервы и мускулы уже собирались, сжимались, чтобы бросить меня к ее ногам, и – вдруг – унылая мысль: «Нет, теперь уже поздно!.. Нужное мгновение пропущено... Жест после долгой паузы выйдет ненатуральным... станет еще стыднее и неловче...»
Но Мария, моя прекрасная, добрая Мария быстро поняла и мои колебания, и мои колючие мысли. Она встала, положила руки на мои плечи и близко заглянула мне в глаза своими ласковыми, чистыми глазами.
– Дорогой Мишика, не будем дуться друг на друга. Прости меня. Я была бестактна, когда вздумала читать тебе мораль. Это, конечно, не дело женщины. Поцелуй меня, Мишика, поцелуй скорее, и забудем все. Делай что хочешь с моим временем и со мною. Я твоя и сегодня, и завтра, и всегда.
Мы помирились сладко и искренно. Но у меня уже не хватило решимости ни продлить нашу ночь на двадцать четыре часа, ни послать на завод телеграмму. Мария довезла меня до вокзала, и мы там расстались добрыми друзьями и счастливыми любовниками.
* * *Когда вытащишь большую и глубокую занозу, то еще долго саднит пораненное место. Всю неделю не давали мне покоя неприятные, кислые мысли, далеко не лестные для меня самого. Уж очень я грубо развернул перед европейской, умной и прелестной женщиной изнанку русской широкой души: наше небрежение к долгу и слову, нашу всегдашнюю склонность «ловчиться», чтобы избежать прямой и ответственной обязанности, наше отлынивание от дела, а главное, нашу скверную привычку носиться со своим я и совать его всюду без толка и основания, дерзко отметая опыты культуры, завоевания науки, навыки цивилизации. Не оттуда ли наш нигилизм, анархизм, индивидуализм, эгоцентризм и наш худосочный припадочный атеизм и чудовищно изуродованное сверхчеловечество, вылившееся в лиги любви, в огарчество, в экспроприации? И не эти ли черные стороны русской души создали удобренную почву для такого пышного расцвета русской самозванщины, от Емельки до Хлестакова?.. Пьяный чиновничишка, коллежский регистратор, когда его выталкивали за неплатеж из кабачка, непременно грозился: «Погодите! Я еще вот покажу себя! Вы еще не знаете, с кем имеете дело!»...
Теперь ты видишь, друг мой, как в эти дни я корчился, вспоминая свои идиотские слова о честном слове, почти о присяге: «Захочу – держу, захочу – брошу псу под хвост...»
В субботу, по окончании работы, Мария заехала за мною на завод, как нередко делала и раньше. У нее был собственный, небольшой, но быстроходный изящный «Пежо», которым, надо сказать, она владела в совершенстве.
В воротах нам встретился директор. Он почтительно поклонился Марии, низко сняв шляпу. Она дружески кивнула ему головой, послала воздушный поцелуй и сразу взяла третью скорость.
Я любил сидеть в автомобиле не рядом с нею, а сзади, на пассажирском месте. Мне нравились ее ловкие, уверенные движения. Несясь по свободной дороге и точно ловя незаметный ритм машины, она плавно покачивала стройной спиною. Когда мы попадали в тесный затор, она нетерпеливо выпрямлялась и, высоко подняв голову, разыскивала глазами тот свободный коридор, в который можно было ринуться, и когда находила – весело кидалась в него, склонив голову, как бычок. И мне радостно бывало смотреть, как солнце играло золотыми спиралями в рыжеватых вьющихся волосах ее красивого затылка.
В этот день мы немного покатались на лодке, пообедали у меня в гостинице. Ушла она рано, часов около двух. Когда, прощаясь, я посадил ее в автомобиль, она перегнулась через, дверцу и сказала:
– Послушай, Мишика! Мне давно хочется, чтобы ты когда-нибудь у меня позавтракал или пообедал. Не приедешь ли ты ко мне завтра, около половины первого или в час?
Я обрадовался.
– Конечно! С большим удовольствием. Но ведь я не знаю ни твоего адреса, ни...
Она докончила за меня:
– Ни фамилии, хочешь ты сказать?
– Да.
– Так запомни: мой адрес – четыре тысячи пятьсот три, Vallon de l’Oriol. Спроси госпожу Дюран.
Я переспросил с удивлением, недоверчиво:
– Госпожу Дюран? (Ведь всем известно, что Дюран самая простая и самая распространенная фамилия во Франции. Достаточно заглянуть в любой справочник или указатель.) Неужели у прекрасной, изысканной Марии такое ничего не говорящее имя?
И тут при жидком свете уличного фонаря я заметил, как густо и жарко покраснело лицо Марии. Она сказала шепотом:
– Нет, Мишика, нет. Я не хочу тебя обманывать. Я вовсе не Дюран. Это мое nom de guerre[9]. Тебе это не нравится?
– О дорогая, я обожаю тебя!
– Все равно, рано или поздно я должна была это тебе сказать. Мое родовое имя очень старое и окружено почетом. Мой отец и дед были адмиралами. Имя моего прадеда, великого адмирала, значится во всех исторических учебниках. Я знаю, тебе не покажется ни смешным, ни странным то, что я дорожу честью моих предков. Но я живу и буду жить только так, как мне самой хочется, и я знаю, что мой образ жизни мог бы скомпрометировать моих родственников, и потому я взяла первое попавшееся имя. И еще я тебе скажу... Я не виновата в том, что откололась от семьи. Меня почти девочкой связали с человеком, которого я не любила и который меня не любил, любил мое тело и молодость. Он был гораздо старше меня. Надо сказать правду: я пленилась его высоким положением, богатством и славным титулом, но ведь я тогда была очень молода и очень глупа! Да, я солгала в первый и в последний, – заметь, Мишика, – в последний раз! Я убежала от него через неделю. Убежала в ужасе. И вот... Впрочем, довольно, мой Медведь. Ведь если я тебе все это рассказала – ты меня будешь любить не меньше?
Она засветила прожекторы и рявкнула гудком.
– До завтра, Мишика! – донесся до меня ее звонкий голос.
Глава IX
Павлин
Я приехал к Марии в назначенное время. Жила она на другой окраине города, где было мало шума и много деревьев. Старенькая, седая, благообразная привратница в старинных серебряных очках сообщила мне, что мадам Дюран помещается на третьем дворе, в собственном павильоне-особняке, где, кроме нее и прислуги, нет других жильцов. Этот третий двор, очень обширный, был похож на сад или на небольшой сквер. Вдоль высокого квадрата кирпичной огорожи росли мощные каштаны, а между ними кусты сирени, жасмина и жимолости; двор усыпан гравием; посредине его круглая высокая цветочная клумба, и в центре фонтан – женская нагая фигура, позеленевшая от времени. Сквозь поредевшие листья деревьев можно было заметить огромное, в два этажа, стеклянное окно, такое, какие бывают в мастерских художников и фотографов.
Я позвонил и тотчас же услышал легкие, быстрые, веселые шаги, сбегавшие сверху.
Мария сама отворила дверь. На ней была домашняя одежда: свободное шелковое цветное кимоно с широкими рукавами, обнажавшими по локоть ее прелестные руки. Улыбающееся лицо сияло счастьем и здоровьем. Она взяла меня за руку.
– Идем, идем, Мишика. Я тебе покажу мою келью.
Мы поднялись наверх по отлогой винтовой дубовой лестнице и вошли в ателье, просторное и высокое, как танцевальный зал, все наполненное чистым воздухом и спокойным светом, лившимся сверху, с потолка, и из стеклянного, большого, во всю стену, окна.
Обстановка была совсем проста, но необычна – вся из ясеня: ясеневый паркет, ясеневые панно на стенах, ясеневый громадный, вроде как бы чертежный стол у окна, ясеневые стулья. Я даже услышал с удовольствием давно знакомый мне, милый, свежий, чуть-чуть яблочный запах полированного ясеневого дерева. И именно благодаря ясеневым фанерам освещение комнаты ласкало и веселило взор, имело изящный, слегка желтоватый колорит, похожий на цвет свежесбитого сливочного масла или на липовый мед, вылитый из сотов.
Направо у входа, у стены, стояла низкая и широкая оттоманка, покрытая отличным старинным ковром царственных густых и глубоких красок: темно-зеленой и темно-рыжей.
Никаких украшений. Только на столе помещался черный бархатный экран, а перед ним, на его строгом фоне, стоял фарфоровый кувшинчик с одной-единственной хризантемой: чудесная манера японцев любоваться цветами, не рассеивая внимания и не утомляя зрения.
Не сетуй, мой старый дружище, что я так утонул в подробностях. Ах! там, в этом прекрасном ателье, меня посетили величайшие радости и – по моей вине – отчаянное горе, которое выбило меня из жизни.
Я повернулся лицом к той стене, которая до сих пор была у меня за спиною. И я вдруг увидел удивительную вещь. Прямо напротив меня, совсем закрывая ясеневое панно, стоял необычайной величины великолепный павлин, распустивший свой блистательный хвост. Сначала мне показалось, что я вижу редкостное, по размерам и красоте, чучело, потом я подумал, что это картина, прекрасно написанная масляными красками, и, только подойдя поближе, я убедился, что передо мною – изумительная вышивка на светло-оранжевом штофе зелеными и синими шелками всевозможных тонов, нежнейших оттенков и поразительных, незаметных переходов из цвета в цвет.
Я искренне восторгался: «Какое волшебство! Это уже не рукоделие, а настоящее художественное творчество! Кто сделал такую прелесть?»
Она ответила с кокетливой застенчивостью и с легким реверансом:
– Ваша скромная и покорная служанка, о мой добрый господин.
И потом она спросила:
– Тебе в самом деле нравится этот экран, Мишика?
– Бесконечно. У нас в России были очень искусные вышивальщицы золотом и шелком, но ничего подобного я не мог даже вообразить!
– Так он правда нравится тебе? Я рада и горда, он твой. Возьми его.
Я поцеловал одну за другой ее милые руки и решительно отказался:
– О моя Мария, этот подарок чересчур королевский! Место твоему павлину на выставке гобеленов или в королевском дворце, а не в моем временном бараке или в номере гостиницы.
Я рассказал ей о том, что на мусульманском Востоке существовал, а может быть, и теперь еще кое-где существует, древний величественный обычай: если гость похвалил какой-нибудь предмет в доме – посуду, утварь, ковер или оружие, то ему тотчас же эту вещь преподносили в подарок.
Она захлопала в ладоши.
– Вот видишь, Мишика! Ты должен взять павлина!
Но я продолжал:
– Однако о таком щедром обычае вскоре узнали европейцы, которых великое назначение – нести цвет культуры и цивилизации диким народам. И вот они начали злоупотреблять священным обычаем гостеприимства. Они в домах магометан стали умышленно хвалить то то, то это, пока не потеряли умеренности и не принялись расхваливать хозяину огулом все самые лучшие, самые древние драгоценности, собранные еще прапрадедами. Мусульмане морщились, кряхтели, беднели с каждым днем, но, верные преданиям, нарушить старый неписаный закон, «адат», не решались. Тогда, сжалившись над ними, пришел им на помощь один знаменитый, мудрый мулла.
– В Коране написано, – сказал Хаджи, – что все в мире имеет свою грань и свой конец, за исключением воли Аллаха. Поэтому и гостеприимству есть предел. В твоем собственном доме даже кровный враг считается выше хозяина. Он больше, чем родственник, он друг, и особа его священна для тебя. Но как только он переехал за черту твоих владений – закон гостеприимства исчезает. Враг снова становится врагом, и от твоего разумения зависит, как ты должен поступить с ним. А разве не враг тебе жадный и бесцеремонный человек, который, под защитой твоего великодушия и уважения к старинному закону, безнаказанно обирает твой дом, да еще вдобавок искренне считает тебя ослом?









