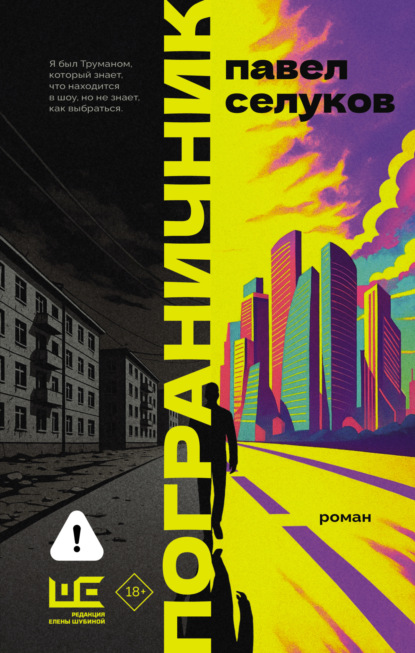Полная версия
В Советском Союзе не было аддерола (сборник)
– «Святая анорексия», вы говорите? Очень интересно, а по-латыни это будет… – и, выделяя интонационно паузу, в которую я должна вклиниться с подсказкой, он смотрит на меня, приподнимает бровь, слегка кивает, подсказывая: ваша реплика, не тормозите сценарий.
– Извините, вы не могли бы повторить, пожалуйста? – очнувшись, прошу я, чтобы выиграть секунду времени и потому что я правда не расслышала.
– Да-да, вы хотели мне продиктовать латинское название.
– Латинское название?
– Ну да, для особого типа анорексии…
– Ах, да, anorexia mirabilis, я что-то вдруг задумалась и совершенно выпала из реальности, простите, пожалуйста, – расслабленно и звонко отвечаю, полуулыбнувшись в конце фразы, ах, с кем не бывает, правда, и параллельно напряженно изучаю человека, с которым я разговариваю, похоже, уже не первый час.
Вы знаете, как это неприятно, когда в голове ни с того ни с сего щелкает, будто спадает туман, и ты понимаешь, что совсем, совсем не понимаешь, что происходит и что происходило последние несколько часов. Они исчезли из твоей памяти, как будто кто-то прошелся по ней ластиком. Отдельные моменты могут мелькать краткими искрами – вот ты стоишь у окна и ищешь точки, где Чарльз сливается с озером, а озеро – с небом. Вот ты спускаешься по лестнице, замечая, что все рассматривают тебя с удивлением; кажется, это из-за того, что ты идешь через гостиничный холл босиком, и действительно, вот девушка с геометричным каре при виде тебя зябко кутается в свитер; а вон тот дедушка забеспокоился и вглядывается в твое лицо – ой, спасибо, сэр, не стоит волноваться, у меня всё в полном порядке, просто, знаете, смена часовых поясов сильно сказывается, видите, уже даже виски пробую в качестве снотворного, – потому что это один из таких старичков, которым это покажется остроумной шуткой. Спасибо, спасибо, а у меня как раз тоже есть знакомый, который любит «Чивас». Пожалуй, так и сделаю! Еще раз спасибо, да, хорошего вам отдыха.
И потом уже все сливается, кроме ощущения холода, и вдруг, вынырнув из этой полосы, я понимаю, что все еще сижу в лобби-баре, действительно босиком, рваные джинсы и свитер наизнанку, на шее кольцами накручен шарф. Карлоу был бы вне себя, но я хотя бы не разболтаю ничего лишнего: в затылочную долю уже давно вживлен нейрофиксатор, и я надежна и безмолвна как камень.
Но все-таки – как неприятно. Очень неприятно. Типичная антероградная амнезия, случается с теми, кто подсел или перебирает с бензодиазепином. Принимаешь таблетку или две-три, ждешь, пока подействует, но сон нейдет. Отчаявшись, решаешь заняться чем-то другим. А потом все заволакивает туманом, и когда очнешься, оказывается, что прошло уже несколько часов, а ты не помнишь, что делал и говорил в это время. Я же зарекалась, зарекалась выходить из номера и вообще заговаривать хоть с кем-нибудь. Что произошло? Молниеносно каталогизируя в памяти воспоминания обо всех подобных эпизодах за последний год, сопоставляю их, чтобы лучше представить себе динамику привыкания и очертить возможные траектории и негативные тенденции.
В первый раз, конечно, само включение-отключение сознания пугает – а вы бы как отреагировали? Но в двадцать первый я уже не удивляюсь, а просчитываю возможные действия. Самое главное сейчас – аварийный выход, переключение ситуации. (И заставляю себя отключиться от размышлений о том, какой вектор вырисовывается из череды подобных эпизодов. Так, не сейчас, сейчас главное – собеседник.)
– Ой, – я резко смотрю на часы, – извините, по-моему, я вас заговорила, а мне уже пора, да и вам, наверное, тоже. Мне до восьми утра нужно провести скайп-конференцию с коллегами, завтра презентация нашего проекта, но, к сожалению, часть рабочей группы не смогла приехать. Анорексия мирабилис, запомнили?
За долю секунды между моим щебетанием и его ответом я окончательно прочерчиваю в уме этот вектор и понимаю, что промежутки между эпизодами сократились в два с половиной раза, а продолжительность пробелов в памяти, возможно, удлинилась, вероятность – процентов тридцать, для точности нужно восстановить в памяти каждый случай отдельно. Бензодиазепины. Сколько я на них – года четыре или пять? Что я помню о препарате? Побочные эффекты – достоверной информации, кажется, пока нет – когнитивные расстройства, IQ, психоз, зрительная память.
Собеседник хотел было возразить, но я, широко улыбаясь, протянула ему для рукопожатия руку, которую он безвольно принял. Минус балл. Отступив на шаг и продолжая улыбаться, подытожила:
– Очень приятно было поговорить! Надеюсь, еще увидимся. Хотя на таких конференциях никогда не знаешь… В любом случае рада была познакомиться, – и, не дожидаясь ответа, развернулась и быстрым шагом очень, очень занятого аспиранта прошла к лифту.
В такой ситуации это проще всего. Никаких объяснений, никакой неловкости. И существует статистическая вероятность того, что в следующий раз, столкнувшись со мной лицом к лицу, он меня не вспомнит. Ведь у людей чаще всего плохая память на лица. Больше всего меня встревожило даже не то, что я наверняка рассказала много лишнего, пусть даже не о проекте, а о самой себе, а то, что из-за этой внезапной потери контроля над собой, неожиданной слабости, моя «вторая кожа», то невозмутимое, сдержанное спокойствие, которому я так долго училась, дало трещину, и бесконечный мысленный хаос, которого я так успешно избегала в последнее время, грозит затопить мое сознание снова. Ну а кому это вообще интересно? Проект в любом случае под защитой, остальное неважно.
Двадцать третий этаж, пожалуйста. Да, спасибо большое. Нарушение механизма перемещения в долговременную память. Двери лифта закрываются, и на секунду я снова засыпаю и просыпаюсь.
Я врываюсь в свой номер в семь часов ноль-ноль минут – ровно в то время, когда я каждое утро начинаю завоевывать мир. Будильник уже разрывается от мелодии, разработанной по инновационной методике с учетом новейших эмпирических данных о процессах когнитивного обмена и взаимодействия психики… ну, проще говоря, жуткой мелодии, которую специально для меня написали приглашенные к нам в лабораторию два сумасшедших нейропрофессора из Индианы. Механизм соединен с моим браслетом Jawbone Professional Edition, что позволяет синхронизировать биоритмы, время пробуждения и подходящую мелодию; она будет играть еще тридцать-сорок минут, вызывая мобилизацию нейронов и постепенно перенастраивая биоритмы мозга на заданную частоту. Будильник также соединен с устройством отслеживания у дежурной медсестры, которая получает сигнал об активации устройства и приблизительный прогноз по продолжительности синхронизации. Таким образом медсестра узнаёт, в какое время ей нужно быть у меня для проведения медосмотра, и корректирует дневной план работы с остальной командой – быстро, эффективно, и ни одной напрасно потраченной минуты. Прекрасно со всех сторон, если не считать, что я, как правило, пребываю в неведении относительно того, чего и когда именно мне ждать, потому что у меня единственной отсутствует доступ к этой информации. Причина такой информационной блокировки вполне очевидна: желание избежать эффекта плацебо, ведь если я буду своевременно получать всю статистику, то, учитывая склонность человеческого мозга к вычислению закономерностей, в моем случае еще многократно умноженную, я могу начать подсознательно искать связь между показателями, своим самочувствием, занятиями и исследованиями, которые выполняются в этот день, – а значит, потерять объективность и подбивать объективные факты о своем самочувствии, например, под существующую только в моей голове схему – и в результате поставить под угрозу точность всего эксперимента. А когда речь идет о таких тонких и совсем не тонких материях, как возможность программировать мозг человека, и еще о десятках миллионов долларов, – точность весьма желательна. Боже, я уже просто не могу избавиться от этого языка. Пожалуйста, дай мне снова возможность и силы говорить короткими фразами. Рывками снимаю джинсы, шарф, свитер, распускаю волосы и ложусь в кровать, продолжая прокручивать в голове отрывки воспоминаний о ночном разговоре, пытаясь восстановить хотя бы общее направление и круг тем… Будильник тем временем создает энергетическое поле, раздражая звуковые рецепторы с целью спровоцировать определенную реакцию нервной системы.
Через десять минут в комнате появляется Лариса, и настроение у меня сразу улучшается: Ларису я обожаю. Во-первых, она такая русская эмигрантка, что даже самые нетронутые массовой культурой, чистые и непредвзятые иностранцы сразу распознают в ней советскую женщину. Челка перышками, бесконечные цветастые кофточки, голубые тени до бровей и каблуки-рюмочки (со свойственной ей бережливостью и практичностью Лариса хвастается тем, что купила их в восемьдесят шестом году в обувном на бульваре Мира за 29 рублей – и до сих пор как новые) – все это такое узнаваемое и родное, что время от времени мне хочется обнять ее, вжаться в ее мужественные, фактурные и немного расплывшиеся плечи, уткнуться носом в плечо и на секундочку сделать вид, что сейчас мама решит все проблемы.
Из всех задействованных в эксперименте работников Лариса чуть ли не единственная, кто относится ко мне как к полноценному человеку, хотя я не могу сказать с уверенностью, оттого ли это, что я – русская девочка, потенциально годящаяся по возрасту ей в дочери, оттого ли, что она добра по своей природе, или оттого, что не совсем понимает, да и не особенно старается, суть нашей работы, моей работы и своей работы. В любом случае, едва войдя в комнату, Лариса начинает говорить, сопровождая меня историями из жизни и из газет всю свою смену; периодически приносит мне пирожки с картошкой и своими постоянными красноречивыми жалобами на то, как я мало ем и плохо выгляжу, обеспечивает мне легитимную возможность взять пятиминутный перерыв и спокойно поесть. А еще на нее всегда можно рассчитывать: малейший невербальный знак – и Лариса присаживается рядом на диван, смотрит мне в лицо не отрываясь, пока я говорю, кивает головой, участливо предлагает варианты действий и всевозможные психологические интерпретации и на голубом глазу ругает вместе со мной Карлоу, вторую медсестру Джессику, первого ассистента Джордана и всех остальных, на кого она работает, не утруждая себя мучительной оценкой своей профессиональной этики; в этот момент, пусть даже не намного дольше, Лариса считает, что наша с ней связь как «двух самостоятельных сильных женщин-эмигранток с нелегкой судьбой», а возможно, также и высшим образованием и длинными ногами, гораздо сильнее и важнее, чем ее или моя подотчетность Карлоу и судьба нейроконфликтного программирования. И не то чтобы завтра, или даже через пять минут, это ощущение не испарялось; даже в тот момент, когда оно острее всего, я знаю, что его на самом деле нет. В принципе, я и так все знаю, и в советах необходимости нет. Все, что мне нужно, – это чтобы в тот самый момент кто-нибудь меня выслушал, кивая головой. А на остальное у меня сил хватит.
Лариса постоянно делает мне поблажки. Если бы не она, я бы давно вылетела из института, растеряла всех друзей и не смогла бы избежать родительского огорчения.
Но самое главное – это то, что Лариса регулярно дает мне краткую возможность побыть самой собой, а не объектом эксперимента. И это та малость, которая делает видимой грань между сумасшествием и сумасшедшей жизнью. Потому что иногда мне кажется, что видимой черты нет – и что я, споткнувшись, потеряла равновесие, сорвалась и лечу в пропасть.
По правде говоря, я не знаю, делает ли Лариса так из симпатии или от легкой небрежности, – но другие медсестры поддерживают видимость непрерывного и крайне активного присутствия в моей жизни, постоянно переходя грань между внимательностью и назойливостью; и я всегда помню, что при малейшем простое секундомера у меня сразу зазвонит телефон или в комнате объявится деловитая женщина бесцеремонного поведения. Лариса же, будучи занятой своими делами, в числе которых, как правило, числятся телефон и ее «новый мужчина», упрямо отвечает координатору, что у нас все в порядке и еще пять минут. И это становится смехотворно важным и ценным для меня в ситуации, когда мое время регламентируется по минутам и абсолютно никому не кажется неправильным давать мне выбор между едой и сном, сном и учебой, десятью страницами книги перед сном или чашкой кофе в перерыве между двумя сессиями томографа. Каждое движение минутной стрелки стоит тысячи долларов и делает меня все более и более дорогим продуктом; и проще превратить жизнь десяти человек в ад вечного хронометража, чем раздвинуть эти рамки. И вдруг посреди всего этого Лариса, полевой цветок беспечности и безыскусности, может полчаса листать последний выпуск People и не думать о том, что ей тоже платят зарплату.
– По-моему, все-таки полнят немного, заразы такие, – говорит Лариса вместо приветствия, рассматривая себя в зеркало со всех сторон. – Новые джинсы, как тебе?
– А по-моему, ничего, хорошо сидят.
Но Лариса, уже переключившись на режим работы, стремительно летит вперед.
– Выспалась? Таблетки приняла? Что у нас с давлением? Надо померить. Какой идиот придумал эти долбаные графики, – ворчит Лариса, быстро передвигаясь по комнате, рассматривая гостиничные безделушки, проверяя мои витамины, закатывая мне рукава, выглядывая из окна и читая сообщение на телефоне.
– Вообще не очень, только не говорите, ладно?
– Не говорите так не говорите, – отвечает она, размашисто заполняя графу в таблице. – И что, опять не ела? Блин, девочка моя, а вот так вот уже нельзя. Смотри, сейчас разворачиваешься на сто восемьдесят градусов и мигом дуешь в столовку, поняла меня? У нас еще есть полчаса, потом поедем.
И так она то ли отправляет меня завтракать, то ли с ловкостью опытной медсестры, умеющей подсластить пилюлю и заговорить зубы пациенту, продолжает незаметно прокладывать себе и мне дорогу к завершению эксперимента, даже не замечая, с какой легкостью ей дается все то, что другие медсестры годами отрабатывают на курсах по коммуникациям с пациентом.
Лариса говорит без умолку – когда сидит рядом со мной на заднем сиденье микроавтобуса; когда заполняет документы в общественной больнице штата Иллинойс; когда деловито подкладывает мне под руку одеяло, перетягивает резинкой повыше локтя и прокалывает вену; когда вместо шприца, рассказывая мне, как ей нравятся мои сережки, вставляет мне в вену тонкий резиновый катетер и наполняет кровью первые шесть пробирок. К томографу, впрочем, ее уже не подпускают. Там другая медсестра, Кристина, укладывает меня на передвижную полку, закрепляет упоры для висков, чтобы я не могла сдвинуть голову во время сеанса, наклеивает мне на лоб капсулу для фокусировки и вкладывает в левую руку звонок аварийного вызова, а в правую – прибор с тремя кнопками, которыми я буду работать во время сканирования. Наконец, Кристина накрывает меня одеялом и поверх, по моей просьбе, еще одним – в кабинете МРТ всегда, всегда очень холодно. Я закрываю глаза, включается красный свет, полка начинает подниматься и медленно заезжает в трубу томографа. Теперь в течение сорока минут мне будут показывать картинки, цитаты, задачи, формулы, куски текстов на разных языках, и я должна буду нажимать одну из трех кнопок в зависимости от того, знаком ли мне этот слайд и знаю ли я, как его перевести или решить. Через сорок минут сканер остановят, меня откроют и переведут в соседнюю комнату, где уже будет ждать Лариса с новыми шестью пробирками наготове.
Второй сеанс всегда дается мне сложнее – он рассчитан на эмоциональный интеллект, на выдержку и самоконтроль, а вот с этим у меня бывают сбои. Когда Карлоу распорядился показать мне записи из Гуантанамо, я настолько вышла из себя, как будто в один момент в голове что-то отключилось, – резко нажала кнопку экстренного вызова, встревоженные медсестры моментально всё отключили и прибежали меня спасать, а я показывала знаками, что надо срочно все с меня снять, отцепить все эти проводки и присоски; а потом не дождалась, сорвала все сама, спрыгнула с полки и прямо как была, в больничной пижаме, направилась в кабинет Карлоу. Не совсем точно помню выбранную мною стратегию ведения переговоров, но ходят слухи, что я очень, очень громко кричала, то и дело повторяя «аморально» и «вы что, совсем с ума сошли». За исключением этого, впрочем, суть моих высказываний так и осталась загадкой. Сеанс с хрониками Гуантанамо пришлось повторить. А с Карлоу месяца два, наверное, у нас длилось пассивно-агрессивное противостояние, вылившееся потом еще в один конфликт с последующим примирением.
Случай с Гуантанамо, пожалуй, был самым запоминающимся и не совсем рядовым. И факт в том, что эта часть эксперимента потребовала гораздо больше времени и работы, чем изначально планировалось. Даже сейчас Карлоу был сильно недоволен прогрессом. В теории нейропрограммирование должно было понизить мою эмоциональную восприимчивость и повысить интеллектуальную. Таким образом, вместо персонализации увиденного я должна была переходить к макровосприятию: моментальное генерирование типических моделей и прецедентов, оценка воспроизводимой ситуации и параллельное многоаспектное прогнозирование. И хотя я делала второе, степень эмоционального реагирования не снижалась. В конце концов Карлоу принял решение модифицировать критерии и ожидания на данном этапе, сосредоточившись на выполнении интеллектуальных установок, и пересмотреть результаты над этим сектором позже, на второй стадии работы.
Сегодня мне показывали видеозаписи о русских эмигрантах в Германии – в основном потому, что Карлоу считает это моим больным вопросом. Судя по всему, прорабатывались сентиментальная тематика, комплекс, связанный с ностальгией, разлукой, тоской и архетипами, на которых он базируется. Вот сейчас, например, экран показывал двух худеньких маленьких женщин лет шестидесяти, одетых очень похоже: юбки до колена, блузочки, почти одинаковые черные пальто, одна в шляпке, а другая – в газовом шарфике, они напоминали библиотекарш или служительниц музея, тех самых, которых так часто можно увидеть в консерватории или в Большом, обсуждающих в антракте, прохаживаясь под руку по коридорам, что в восемьдесят восьмом та актриса сыграла Раневскую гораздо лучше. Приблизительно девяносто пятый год (судя по одежде), скорее всего, сестры, выросли в Москве, владеют только русским языком. Камера преследовала их по пятам, показывая, как они пытаются снять с поезда огромный чемодан, в который, как можно было предположить методом визуальных исключений из флешбэков, был заботливо уложен семейный хрусталь. Хроника дошла до лагеря переселенцев, и ситуация развивалась вполне предсказуемо: одна из старушек была отправлена «пуцать» в супермаркет, а вторая жаловалась на то, что она кандидат исторических наук, а наверняка отправится туда же. Закадровый голос, конечно же, объяснял, что эмигрантка проходит адаптационный период и следующие два месяца определят, какой степени бериевской аккультурации можно будет ожидать. Я поставила на вторую в надежде на наиболее благополучное стечение обстоятельств. Потому что в таких ситуациях, знаю по себе, только и надеешься на что-то непредвиденное и немного деус экс махина. Наверное, через тридцать минут Карлоу получит по почте готовые результаты сканирования и позвонит, чтобы отчитать меня по телефону.
Сеанс заканчивается, и поскольку мы задержались на шесть, у нас остается четыре минуты на то, чтобы я переоделась, и десять минут на то, чтобы маленькими глотками, сидя за столом, не торопясь, выпить витаминный коктейль с протеином. Ровно через четырнадцать минут водитель тронется с места, чтобы в тринадцать тридцать мы вошли в Гроссмановский институт неврологии, квантитативной биологии и изучения поведения человека.
Лариса садится на диванчик в приемной, а я задергиваю шторку в раздевалке, сажусь на пол и достаю айфон и тоненькую плитку бельгийского шоколада. Это мой последний шанс съесть эту шоколадку хотя бы за шесть часов до вечернего анализа крови. С градом опечаток я рывками строчу сообщения маме, сестре и Саре: «У меня все хорошо». Все волнуются перед завтрашним днем, но стараются не показывать, чтобы волнение не передалось мне. Даже Карлоу ведет себя более-менее прилично и то и дело говорит «пожалуйста». Пяти минут обычно хватает на коротенькое, кривое, но все-таки письмо, еще пять – и я выхожу из раздевалки – одетая, зашнурованная, собранная и готовая работать. Лариса спокойно поднимается с дивана, проходит по коридору за одну из стеклянных дверей, возвращается с пластиковым стаканом-тумблером и впихивает мне его в руку.
– Идем?
Еле сдержав улыбку, я шагаю за ней по коридору. Водитель, увидев нас, открывает дверь машины, но его взгляд упирается в коктейль у меня в руках, и я вижу, как этот гладкий лоб разрезает морщина, а в глазах загораются красным световые сигналы тревоги. Потому что все здесь проинструктированы, что, как и когда нужно делать.
– Так, о чем думаем, молодой человек? Поехали, мой друг, ты что, – не давая ему вставить и слова, тараторит Лариса. – Мы же опаздываем!
Она садится на переднее сиденье рядом с водителем, а я сзади, одна, пью свой вполне неплохой коктейль и набираю, теперь уже спокойнее, еще одно письмо.
Часть 2
Современные концентрационные лагеря для эмигрантов в Германии, или Как закалялась советская сталь в Оксфорде
Глава четвертая, в которой я вспоминаю, как живется русским эмигрантам в Германии, и объясняю, как в молодых людях зарождается моя ненависть
Подобно старушке из сегодняшнего фильма про эмигрантов, я тоже когда-то исправно поднималась в шесть утра и отправлялась на социальные работы. Натянув кепку по самые мочки ушей, я сажала цветы, рвала сорняки и окапывала клумбы на главной площади Нойберга, надеясь, что никакая машина google street view, никакие знакомые и никакой случайный турист не запечатлеют навечно меня в рабочем комбинезоне, с секатором, в брезентовых рукавицах, а самое главное – с тем выражением обреченности на лице, какое бывает у махнувших на себя рукой старых людей – мол, думайте что хотите, мне уже все равно.
Полгода назад я в шелковом платье стояла за диджейским пультом, мне было хрупких шестнадцать лет, и я застенчиво улыбалась всему миру. Потом я отнесла в подвал ставшую ненужной коллекцию дисков. А потом все случилось как-то очень быстро, как-то непонятно, что после первого приема у социального консультанта, за жалких две-три недели, кубарем скатившись с этой лестницы, я превратилась в криво накрашенного подростка с размазанной по всему лицу тушью и надписью невидимыми чернилами: «Нет будущего». Я не могла поступить в университет, потому что не окончила гимназию и не сдала выпускные экзамены; я не могла пойти в гимназию из-за разницы школьных программ, а добиться поступления на класс или даже два ниже нам не удавалось – и пока мы ждали помощи от переводчика или сразу же найденного через знакомых знакомых русского адвоката, меня отправили на социальные работы. Все затягивалось, нужны были справки, для справок – документы, для документов – переводы, оригиналы, подтверждения, выписки, бесконечные телефонные звонки, ожидание в молчаливых приемных и расспросы в серых кабинетах. Так, мне казалось, и пройдет остаток моей жизни. Мама говорила каждое утро, что это временно и так или иначе я снова попаду в школу, проучусь самое большее два года, закончу, поступлю в университет и все наладится, – но пока я ждала, все складывалось не в мою пользу: потерянные письма, задержанные документы и просто бесконечное ожидание. Стоял октябрь, ближайшим сроком хороших новостей мог быть лишь сентябрь следующего года, и то если удастся вернуться в школу, и даже это – еще два года, еще институт, еще много, много лет. Мне казалось, что если ждать так долго, то уже и не стоит ждать, потому что как отсрочить начало своей жизни на годы, смирившись с тем, что до тех пор будешь только рыхлить грядки, красить заборы и мыть полы? И никакие уговоры, что можно ходить в кружок любителей театра (при городской ратуше, каждый второй четверг в семь часов вечера, вход открыт для всех желающих), не убедят в обратном.
Вот как у меня на лице стало написано, что я знаю, что это значит – страдать и испытывать стыд за себя. Вам когда-нибудь приходилось осознавать, что отныне вы для всех окружающих – пятый сорт и этого не изменить никогда? Если так, то добро пожаловать в Германию глазами русского эмигранта. После стихийного бедствия прощальных визитов одного за другим, с надрывом, после всех родственников, когда каждый надеется, что снова увидитесь очень скоро, в душе поселяется сомнение. Никакой горечи расставания и тоски. Просто вдруг понимаешь, что только что поставил крест на своей жизни. Если грубо променял свою неприметную, тихую историю на такую же неприметную и тихую, но при этом не твою собственную, а выпрошенную взаймы. Если не оценил свои силы и не сможешь, стиснув зубы, помнить, что ты – это ты, а не сломленный жизнью сорокалетний старик или двадцатилетняя вдова в рабочей спецовке, что начинает подметать улицы в шесть утра. И так человек погребает себя заживо, рассудив, отчасти очень здраво, что шансов больше нет. И нужно просто дотерпеть. Пока.