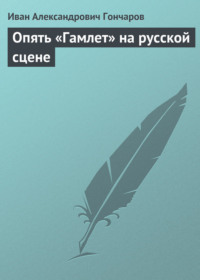полная версия
полная версияОбыкновенная история
Юлия, видя, что он молчит, взяла его за руку и поглядела ему в глаза. Он медленно отвернулся и тихо высвободил свою руку. Он не только не чувствовал влечения к ней, но от прикосновения ее по телу его пробежала холодная и неприятная дрожь. Она удвоила ласки. Он не отвечал на них и сделался еще холоднее, угрюмее. Она вдруг оторвала от него свою руку и вспыхнула. В ней проснулись женская гордость, оскорбленное самолюбие, стыд. Она выпрямила голову, стан, покраснела от досады.
– Оставьте меня! – сказала она отрывисто.
Он проворно пошел вон, без всякого возражения. Но когда шум шагов его стал затихать, она бросилась вслед за ним.
– Александр Федорыч! Александр Федорыч! – закричала она.
Он воротился.
– Куда же вы?
– Да ведь вы велели уйти.
– А вы и рады бежать. Останьтесь!
– Мне некогда!
Она взяла его за руку и – опять полилась нежная, пламенная речь, мольбы, слезы. Он ни взглядом, ни словом, ни движением не обнаружил сочувствия, – стоял точно деревянный, переминаясь с ноги на ногу. Его хладнокровие вывело ее из себя. Посыпались угрозы и упреки. Кто бы узнал в ней кроткую, слабонервную женщину? Локоны у ней распустились, глаза горели лихорадочным блеском, щеки пылали, черты лица странно разложились. «Как она нехороша!» – думал Александр, глядя на нее с гримасой.
– Я отмщу вам, – говорила она, – вы думаете, что так легко можно шутить судьбой женщины? Вкрались в сердце лестью, притворством, овладели мной совершенно, а потом кинули, когда я уж не в силах выбросить вас из памяти… нет! я вас не оставлю: я буду вас всюду преследовать. Вы никуда не уйдете от меня: поедете в деревню – и я за вами, за границу – и я туда же, всегда и везде. Я не легко расстанусь с своим счастьем. Мне все равно, какова ни будет жизнь моя… мне больше нечего терять; но я отравлю и вашу: я отмщу, отмщу; у меня должна быть соперница! Не может быть, чтоб вы так оставили меня… я найду ее – и посмотрите, что я сделаю: вы не будете рады и жизни! С каким бы наслаждением я услыхала теперь о вашей гибели… я бы сама убила вас! – крикнула она дико, бешено.
«Как это глупо! нелепо!» – думал Александр, пожимая плечами.
Видя, что Александр равнодушен и к угрозам, она вдруг перешла в тихий, грустный тон, потом молча глядела на него.
– Сжальтесь надо мной! – заговорила она, – не покидайте меня; что я теперь без вас буду делать? я не вынесу разлуки. Я умру! Подумайте: женщины любят иначе, нежели мужчины: нежнее, сильнее. Для них любовь – все, особенно для меня: другие кокетничают, любят свет, шум, суету; я не привыкла к этому, у меня другой характер. Я люблю тишину, уединение, книги, музыку, но вас более всего на свете…
Александр обнаружил нетерпение.
– Ну, хорошо! не любите меня, – с живостию продолжала она, – но исполните ваше обещание: женитесь на мне, будьте только со мной… вы будете свободны: делайте, что хотите, даже любите, кого хотите, лишь бы я иногда, изредка видела вас… О, ради бога, сжальтесь, сжальтесь!..
Она заплакала и не могла продолжать. Волнение истощило ее, она упала на диван, закрыла глаза, зубы ее стиснулись, рот судорожно искривился. С ней сделался истерический припадок. Через час она опомнилась, пришла в себя. Около нее суетилась горничная. Она огляделась кругом. «А где же?..» – спросила она.
– Они уехали!
– Уехал! – уныло повторила она и долго сидела молча и неподвижно.
На другой день записка за запиской к Александру. Он не являлся и не давал ответа. На третий, на четвертый день то же. Юлия написала к Петру Иванычу, приглашая его к себе по важному делу. Жену его она не любила, потому что она была молода, хороша и приходилась Александру теткой.
Петр Иваныч застал ее не шутя больной, чуть не умирающей. Он пробыл у ней часа два, потом отправился к Александру.
– Каков притворщик, а! – сказал он.
– Что такое? – спросил Александр.
– Смотрите, как будто не его дело! Не умеет влюбить в себя женщину, а сам с ума сводит.
– Я не понимаю, дядюшка…
– Чего тут не понимать? понимаешь! Я был у Тафаевой: она мне все сказала.
– Как! – пробормотал Александр в сильном смущении. – Все сказала!
– Все. Как она любит тебя! Счастливец! Ну, вот ты все плакал, что не находишь страсти: вот тебе и страсть: утешься! Она с ума сходит, ревнует, плачет, бесится… Только зачем вы меня путаете в свои дела? Вот ты женщин стал навязывать мне на руки. Этого только недоставало: потерял целое утро с ней. Я думал, за каким там делом: не имение ли хочет заложить в Опекунский совет… она как-то говорила… а вот за каким: ну дело!
– Зачем же вы у ней были?
– Она звала, жаловалась на тебя. В самом деле, как тебе не стыдно так неглижировать? четыре дня глаз не казал – шутка ли? Она, бедная, умирает! Ступай, поезжай скорее…
– Что ж вы ей сказали?
– Обыкновенно что: что ты также ее любишь без ума; что ты давно искал нежного сердца; что тебе страх как нравятся искренние излияния и без любви ты тоже не можешь жить; сказал, что напрасно она беспокоится: ты воротишься; советовал не очень стеснять тебя, позволить иногда и пошалить… а то, говорю, вы наскучите друг другу… ну, обыкновенно, что говорится в таких случаях. Она стала такая веселая, проговорилась, что у вас положено быть свадьбе, что и жена моя тут вмешалась. А мне ни слова – каковы! Ну, что ж: дай бог! у этой хоть что-нибудь есть; проживете вдвоем. Я сказал ей, что ты непременно исполнишь свое обещание… Я уж нынче постарался для тебя, Александр, в благодарность за услугу, которую ты мне оказал… уверил ее, что ты любишь так пламенно, так нежно…[47]
– Что вы наделали, дядюшка! – заговорил Александр, меняясь в лице, – я… я не люблю ее больше!.. я не хочу жениться!.. Я холоден к ней, как лед!.. скорей в воду… чем…
– Ба, ба, ба! – сказал Петр Иваныч с притворным изумлением, – тебя ли я слышу? Да не ты ли говорил – помнишь? – что презираешь человеческую натуру и особенно женскую; что нет сердца в мире, достойного тебя?.. Что еще ты говорил?.. дай бог памяти…
– Ради бога, ни слова, дядюшка: довольно и этого упрека; зачем еще нравоучение? Вы думаете, что я так не понимаю… О люди! люди!
Он вдруг начал хохотать, а с ним и дядя.
– Вот так-то лучше! – сказал Петр Иваныч, – я говорил, что ты сам будешь смеяться над собою – вот оно…
И опять оба захохотали.
– Ну-ка, скажи, – продолжал Петр Иваныч, – какого ты мнения теперь об этой… как ее?.. Пашенька, что ли, с бородавкой-то?
– Дядюшка, это невеликодушно!
– Нет, я только говорю, чтоб узнать, все ли ты еще презираешь ее?
– Оставьте это, ради бога, а лучше помогите мне теперь выйти из ужасного положения. Вы так умны, так рассудительны…
– А! теперь комплименты, лесть! Нет, ты женись-ка поди.
– Ни за что, дядюшка! Умоляю, помогите!..
– То-то и есть, Александр: хорошо, что я давно догадался о твоих проделках…
– Как, давно!
– Да так: я знаю о твоей связи с самого начала.
– Вам, верно, сказала ma tante.
– Как не так! я ей сказал. Что тут мудреного? у тебя все на лице было написано. Ну, не тужи: я уж помог тебе.
– Как? когда?
– Сегодня же утром. Не беспокойся: Тафаева больше не станет тревожить тебя…
– Как же вы сделали? Что вы ей сказали?
– Долго повторять, Александр: скучно.
– Но, может быть, вы бог знает что наговорили ей. Она ненавидит, презирает меня…
– Не все ли равно? я успокоил ее – этого и довольно; сказал, что ты любить не можешь, что не стоит о тебе и хлопотать…
– Что ж она?
– Она теперь даже рада, что ты оставил ее.
– Как, рада! – сказал Александр задумчиво.
– Так, рада.
– Вы не заметили в ней ни сожаления, ни тоски? ей все равно? Это ни на что не похоже!
Он начал в беспокойстве ходить по комнате.
– Рада, покойна! – твердил он, – прошу покорнейше! сейчас же еду к ней.
– Вот люди! – заметил Петр Иваныч, – вот сердце: живи им – хорошо будет. Да не ты ли боялся, чтоб она не прислала за тобой? не ты ли просил помочь? а теперь встревожился, что она, расставаясь с тобой, не умирает с тоски.
– Рада, довольна! – говорил, ходя взад и вперед, Александр, и не слушая дяди. – А! так она не любила меня! ни тоски, ни слез. Нет, я увижу ее.
Петр Иваныч пожал плечами.
– Воля ваша: я не могу оставить так, дядюшка! – прибавил Александр, хватаясь за шляпу.
– Ну так поди к ней опять: тогда и не отвяжешься, а уж ко мне потом не приставай: я не стану вмешиваться; и теперь вмешался только потому, что сам же ввел тебя в это положение. Ну, полно, что еще повесил нос?
– Стыдно жить на свете!.. – сказал со вздохом Александр.
– И не заниматься делом, – примолвил дядя. – Полно! приходи сегодня к нам: за обедом посмеемся над твоей историей, а потом прокатаемся на завод.
– Как я мелок, ничтожен! – говорил в раздумье Александр, – нет у меня сердца! я жалок, нищ духом!
– А все от любви! – прервал Петр Иваныч. – Какое глупое занятие: предоставь его какому-нибудь Суркову. А ты дельный малый: можешь заняться чем-нибудь поважнее. Полно тебе гоняться за женщинами.
– Но ведь вы любите же вашу жену?..
– Да, конечно. Я очень к ней привык, но это не мешает мне делать свое дело. Ну, прощай же, приходи.
Александр сидел смущенный, угрюмый. К нему подкрался Евсей с сапогом, в который опустил руку.
– Извольте-ка посмотреть, сударь, – сказал он умильно, – какая вакса-то: вычистишь, словно зеркало, а всего четвертак стоит.
Александр очнулся, посмотрел машинально на сапог, потом на Евсея.
– Пошел вон! – сказал он, – ты дурак!
– В деревню бы послать… – начал опять Евсей.
– Пошел, говорю тебе, пошел! – закричал Александр, почти плача, – ты измучил меня, ты своими сапогами сведешь меня в могилу… ты… варвар!
Евсей проворно убрался в переднюю.
IV
– Отчего это Александр не ходит к нам? я его месяца три не видал, – спросил однажды Петр Иваныч у жены, воротясь откуда-то домой.
– Я уж потеряла надежду когда-нибудь увидеться с ним, – отвечала она.
– Да что с ним. Опять влюблен, что ли?
– Не знаю.
– Он здоров?
– Здоров.
– Напиши, пожалуйста, к нему, мне нужно поговорить с ним. У них опять перемены в службе, а он, я думаю, и не знает. Не понимаю, что за беспечность.
– Я уж десять раз писала, звала. Он говорит, что некогда, а сам играет с какими-то чудаками в шашки или удит рыбу. Поди ты лучше сам: ты бы узнал, что с ним.
– Нет, не хочется. Послать человека.
– Александр не пойдет.
– Попробуем.
Послали. Человек вскоре воротился.
– Ну что, он дома? – спросил Петр Иваныч.
– Дома-с. Кланяться приказали.
– Что он делает?
– Лежат на диване.
– Как, об эту пору?
– Они, слышь, всегда лежат.
– Да что ж он, спит?
– Никак нет-с. Я сам сначала думал, что почивают, да глазки-то у них открыты: на потолок изволят смотреть.
Петр Иваныч пожал плечами.
– Он придет сюда? – спросил он.
– Никак нет-с. «Кланяйся, говорит, доложи дяденьке, чтоб извинили: не так, дескать, здоров»; и вам, сударыня, кланяться приказали.
– Что еще там с ним? Это удивительно, право! Ведь уродится же этакой! Не вели откладывать кареты. Нечего делать, съезжу. Но уж, право, в последний раз.
И Петр Иваныч застал Александра на диване. Он при входе дяди привстал и сел.
– Ты нездоров? – спросил Петр Иваныч.
– Так… – отвечал Александр, зевая.
– Что же ты делаешь?
– Ничего.
– И ты можешь пробыть без дела?
– Могу.
– Я слышал, Александр, сегодня, что будто у вас Иванов выходит.
– Да, выходит.
– Кто же на его место?
– Говорят, Иченко.
– А ты что?
– Я? ничего.
– Как ничего? Отчего же не ты?
– Не удостоивают. Что же делать: верно, не гожусь.
– Помилуй, Александр, надо хлопотать. Ты бы съездил к директору.
– Нет, – сказал Александр, тряся головой.
– Тебе, по-видимому, все равно?
– Все равно.
– Да ведь уж тебя в третий раз обходят.
– Все равно: пусть!
– Вот посмотрим, что-то скажешь, когда твой бывший подчиненный станет приказывать тебе или когда войдет, а тебе надо встать и поклониться.
– Что ж: встану и поклонюсь.
– А самолюбие?
– У меня его нет.
– Однако ж у тебя есть же какие-нибудь интересы в жизни?
– Никаких. Были, да прошли.
– Не может быть: одни интересы сменяются другими. Отчего ж у тебя прошли, а у других не проходят? Рано бы, кажется: тебе еще и тридцати лет нет…
Александр пожал плечами.
Петру Иванычу уж и не хотелось продолжать этого разговора. Он называл все это капризами; но он знал, что по возвращении домой ему не избежать вопросов жены, и оттого нехотя продолжал:
– Ты бы развлекся чем-нибудь, посещал бы общество, – сказал он, – читал бы.
– Не хочется, дядюшка.
– Про тебя уж начинают поговаривать, что ты того… этак… тронулся от любви, делаешь бог знает что, водишься с какими-то чудаками… Я бы для одного этого пошел.
– Пусть их говорят, что хотят.
– Послушай, Александр, шутки в сторону. Это все мелочи; можешь кланяться или не кланяться, посещать общество или нет – дело не в том. Но вспомни, что тебе, как и всякому, надо сделать какую-нибудь карьеру. Думаешь ли ты иногда об этом?
– Как же не думаю: я уж сделал.
– Как так?
– Я очертил себе круг действия и не хочу выходить из этой черты. Тут я хозяин: вот моя карьера.
– Это лень.
– Может быть.
– Ты не вправе лежать на боку, когда можешь делать что-нибудь, пока есть силы. Сделано ли твое дело?
– Я делаю дело. Никто не упрекнет меня в праздности. Утро я занят в службе, а трудиться сверх того – это роскошь, произвольная обязанность. Зачем я буду хлопотать?
– Все хлопочут из чего-нибудь: иной потому, что считает своим долгом делать сколько есть сил, другой из денег, третий из почета… Ты что за исключение?
– Почет, деньги! особенно деньги! Зачем они? Ведь я сыт, одет: на это станет.
– И одет-то теперь плохо, – заметил дядя. – Да будто тебе только и надобно?
– Только.
– А роскошь умственных и душевных наслаждений, а искусство… – начал было Петр Иваныч, подделываясь под тон Александра. – Ты можешь идти вперед: твое назначение выше; долг твой призывает тебя к благородному труду… А стремления к высокому – забыл?
– Бог с ними! Бог с ними! – сказал с беспокойством Александр. – И вы, дядюшка, начали дико говорить! Этого прежде не водилось за вами. Не для меня ли? Напрасный труд! Я стремился выше – вы помните? Что ж вышло?
– Помню, как ты вдруг сразу в министры захотел, а потом в писатели. А как увидал, что к высокому званию ведет длинная и трудная дорога, а для писателя нужен талант, так и назад. Много вашей братьи приезжают сюда с высшими взглядами, а дела своего под носом не видят. Как понадобится бумагу написать – смотришь, и того… Я не про тебя говорю: ты доказал, что можешь заниматься, а со временем и быть чем-нибудь. Да скучно, долго ждать. Мы вдруг хотим; не удалось – и нос повесили.
– Да я стремиться выше не хочу. Я хочу так остаться, как есть: разве я не вправе избрать себе занятие, ниже ли оно моих способностей, или нет – что нужды? если я делаю дело добросовестно – я исполняю свой долг. Пусть упрекают меня в неспособности к высшему: меня нисколько не огорчило бы, если б это была и правда. Сами же вы говорили, что есть поэзия в скромном уделе, а теперь упрекаете, что я избрал скромнейший. Кто мне запретит сойти несколькими ступенями ниже и стать на той, которая мне нравится? Я не хочу высшего назначения – слышите ли, не хочу!..
– Слышу! я не глух, только все это жалкие софизмы.
– Нужды нет. Вот я нашел себе место и буду сидеть на нем век. Нашел простых, незатейливых людей, нужды нет, что ограниченных умом, играю с ними в шашки и ужу рыбу – и прекрасно! Пусть я, по-вашему, буду наказан за это, пусть лишусь наград, денег, почета, значения – всего, что так льстит вам. Я навсегда отказываюсь…
– Ты, Александр, хочешь притвориться покойным и равнодушным ко всему, а в твоих словах так и кипит досада: ты и говоришь как будто не словами, а слезами. Много желчи в тебе: ты не знаешь, на кого излить ее, потому что виноват только сам.
– Пусть! – сказал Александр.
– Что ж ты хочешь? Человек должен же хотеть чего-нибудь?
– Хочу, чтоб мне не мешали быть в моей темной сфере, не хлопотать ни о чем и быть покойным.
– Да разве это жизнь?
– А по-моему, та жизнь, которою вы живете, не жизнь: стало быть, и я прав.
– Тебе бы хотелось переделать жизнь по-своему: я воображаю, хороша была бы. У тебя, я думаю, среди розовых кустов гуляли бы всё попарно любовники да друзья…
Александр ничего не сказал.
Петр Иваныч молча глядел на него. Он опять похудел. Глаза впали. На щеках и на лбу появились преждевременные складки.
Дядя испугался. Душевным страданиям он мало верил, но боялся, не кроется ли под этим унынием начало какого-нибудь физического недуга. «Пожалуй, – думал он, – малый рехнется, а там поди разделывайся с матерью: то-то заведется переписка! того гляди, еще прикатит сюда».
– Да ты, Александр, разочарованный, я вижу, – сказал он.
«Как бы, – думал он, – повернуть его назад, к его любимым идеям. Постой-ка, я прикинусь…»
– Послушай, Александр, – сказал он, – ты очень опустился. Стряхни с себя эту апатию. Нехорошо! И отчего? Ты, может быть, принял слишком горячо к сердцу, что я иногда небрежно отзывался о любви, о дружбе. Ведь это я делал шутя, больше для того, чтоб умерить в тебе восторженность, которая в наш положительный век как-то неуместна, особенно здесь, в Петербурге, где все уравнено, как моды, так и страсти, и дела, и удовольствия, все взвешено, узнано, оценено… всему назначены границы. Зачем одному отступать наружно от этого общего порядка? Неужели же ты в самом деле думаешь, что я бесчувственный, что я не признаю любви? Любовь – чувство прекрасное: нет ничего святее союза двух сердец, или дружба, например… Я внутренне убежден, что чувство должно быть постоянно, вечно…
Александр засмеялся.
– Что ты? – спросил Петр Иваныч.
– Дико, дико говорите, дядюшка. Не прикажете ли сигару? закурим: вы будете продолжать говорить, а я послушаю.
– Да что с тобой?
– Так, ничего. Вздумали поддеть меня! А называли когда-то неглупым человеком! хотите играть мной, как мячиком, – это обидно! Не век же быть юношей. К чему-нибудь да пригодилась школа, которую я прошел. Как вы пустились ораторствовать! будто у меня нет глаз? Вы только устроили фокус, а я смотрел.
«Не за свое дело взялся, – подумал Петр Иваныч, – к жене послать».
– Приходи к нам, – сказал он, – жена очень хочет видеть тебя.
– Не могу, дядюшка.
– Хорошо ли ты делаешь, что забываешь ее?
– Может быть, очень дурно, но, ради бога, извините меня и теперь не ждите. Погодите еще несколько времени, приду.
– Ну, как хочешь, – сказал Петр Иваныч. Он махнул рукой и поехал домой.
Он сказал жене, что отступается от Александра, что как он хочет, так пусть и делает, а он, Петр Иваныч, сделал все, что мог, и теперь умывает руки.
Александр, бежав Юлии, бросился в вихрь шумных радостей. Он твердил стихи известного нашего поэта:
Пойдем туда, где дышит радость,Где шумный вихрь забав шумит,Где не живут, но тратят жизнь и младость!Среди веселых игр за радостным столом,На час упившись счастьем ложным,Я приучусь к мечтам ничтожным,С судьбою примирюсь вином.Я сердца усмирю заботы,Я думам не велю летать;Небес на тихое сияньеЯ не велю глазам своим взирать,и проч.Явилась семья друзей, и с ними неизбежная чаша. Друзья созерцали лики свои в пенистой влаге, потом в лакированных сапогах. «Прочь горе, – восклицали они, ликуя, – прочь заботы! Истратим, уничтожим, испепелим, выпьем жизнь и молодость! Ура!» Стаканы и бутылки с треском летели на пол.
На некоторое время свобода, шумные сборища, беспечная жизнь заставили его забыть Юлию и тоску. Но все одно да одно, обеды у рестораторов, те же лица с мутными глазами; ежедневно все тот же глупый и пьяный бред собеседников и, вдобавок к этому, еще постоянно расстроенный желудок: нет, это не по нем. Слабый организм тела и душа Александра, настроенная на грустный, элегический тон, не вынесли этих забав.
Он бежал веселых игр за радостным столом и очутился один в своей комнате, наедине с собой, с забытыми книгами. Но книга вываливалась из рук, перо не слушалось вдохновения. Шиллер, Гете, Байрон являли ему мрачную сторону человечества – светлой он не замечал: ему было не до нее.
А как счастлив бывал он в этой комнате некогда! он был не один: около него присутствовал тогда прекрасный призрак и осенял его днем за заботливым трудом, ночью бодрствовал над его изголовьем. Там жили с ним тогда мечты, будущее было одето туманом, но не тяжелым, предвещающим ненастье, а утренним, скрывающим светлую зарю. За тем туманом таилось что-то, вероятно – счастье… А теперь? не только его комната, для него опустел целый мир, и в нем самом холод, тоска…
Вглядываясь в жизнь, вопрошая сердце, голову, он с ужасом видел, что ни там, ни сям не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды: все уже было назади; туман рассеялся; перед ним разостлалась, как степь, голая действительность. Боже! какое необозримое пространство! какой скучный, безотрадный вид! Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нет: все химера – а живи!
Чего он хотел, и сам не знал; а как многого не хотел!
Голова его была как будто в тумане. Он не спал, но был, казалось, в забытьи. Тяжелые мысли бесконечной вереницей тянулись в голове. Он думал:
«Что могло увлечь его? Пленительных надежд, беспечности – нет! он знал все, что впереди. Почет, стремление по пути честей? Да что ему в них. Стоит ли, для каких-нибудь двадцати, тридцати лет, биться как рыба об лед? И греет ли это сердце? Отрадно ли душе, когда тебе несколько человек поклонятся низко, а сами подумают, может быть: „Черт бы тебя взял!“
Любовь? Да, вот еще! Он знает ее наизусть, да и потерял уже способность любить. А услужливая память, как на смех, напоминала ему Наденьку, но не невинную, простодушную Наденьку – этого она никогда не напоминала – а непременно Наденьку-изменницу, со всею обстановкой, с деревьями, с дорожкой, с цветами, и среди всего этот змеенок, с знакомой ему улыбкой, с краской неги и стыда… и все для другого, не для него!.. Он со стоном хватался за сердце.
«Дружба, – подумал он, – другая глупость! Все изведано, нового ничего нет, старое не повторится, а живи!»
Он никому и ничему не верил, не забывался в наслаждении; вкушал его, как человек без аппетита вкушает лакомое блюдо, холодно, зная, что за этим наступит скука, что наполнить душевной пустоты ничем нельзя. Ввериться чувству – оно обманет и только взволнует душу и прибавит еще несколько ран к прежним. Глядя на людей, связанных любовью, не помнящих себя от восторга, он улыбался иронически и думал: «Погодите, опомнитесь; после первых радостей начнется ревность, сцены примирения, слезы. Живучи вместе, надоедите друг другу смертельно, а расстанетесь – вдвое заплачете. Сойдетесь опять – еще хуже. Сумасшедшие! беспрерывно ссорятся, дуются друг на друга, ревнуют, потом мирятся на минуту, чтоб сильнее поссориться: это у них любовь, преданность! а всё вместе, с пеной на устах, иногда со слезами отчаяния на глазах, упрямо называют счастьем! А дружба ваша… брось-ка кость,[48] так что твои собаки!»
Желать он боялся, зная, что часто, в момент достижения желаемого судьба вырвет из рук счастье и предложит совсем другое, чего вовсе не хочешь – так, дрянь какую-нибудь; а если наконец и даст желаемое, то прежде измучит, истомит, унизит в собственных глазах и потом бросит, как бросают подачку собаке, заставивши ее прежде проползти до лакомого куска, смотреть на него, держать на носу, завалять в пыли, стоять на задних лапах, и тогда – пиль!
Его пугал и периодический прилив счастья и несчастья в жизни. Радостей он не предвидел, а горе все непременно впереди, его не избежишь: все подвержены общему закону; всем, как казалось ему, отпущена ровная доля и счастья и несчастья. Счастье для него кончилось, и какое счастье? фантасмагория, обман. Только горе реально, а оно впереди. Там и болезни, и старость, и разные утраты, может быть еще нужда… Все эти удары рока, как говорит деревенская тетушка, стерегут его; а отрады какие? Высокое поэтическое назначение изменило; на него наваливают тяжкую ношу и называют это долгом! Остаются жалкие блага – деньги, комфорт, чины… Бог с ними! О, как грустно разглядеть жизнь, понять, какова она, и не понять, зачем она!
Так хандрил он и не видел исхода из омута этих сомнений. Опыты только понапрасну измяли его, а здоровья не подбавили в жизнь, не очистили воздуха в ней и не дали света. Он не знал, что делать: ворочался с боку на бок на диване, стал перебирать в уме знакомых – и пуще затосковал. Один служит отлично, пользуется почетом, известностью, как хороший администратор; другой обзавелся семьей и предпочитает тихую жизнь всем суетным благам мира, никому не завидуя, ничего не желая; третий… да что? все, все как-то пристроились, основались и идут по своему ясному и угаданному пути. «Один я только… да что же я такое?»