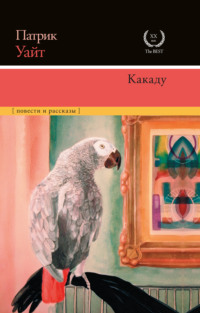Полная версия
Фосс
Тернер принялся хихикать и задорно подмигивать мальчику, внимавшему с открытым ртом.
– Если это был я и я был пьян, то ничего не помню. – Лемезурье презрительно наморщил нос. – Кроме того, что был пьян.
– Мы тут не одни с тобой грешники, верно, сынок? – жадно сглотнул подмигивающий Тернер.
Он ощутил необходимость привлечь на свою сторону мальчика. Двое всегда лучше одного.
– Я готов признать, что был пьян, – сказал Лемезурье.
– Это правда, – угрюмо кивнул мальчик, который наконец усвоил правила игры и теперь наслаждался роскошью принимать ту или иную сторону.
– Иногда это просто необходимо, – нахмурился Лемезурье.
– А-га! – взорвался Тернер. – Червям расскажите! Будто они не разбираются в жидкостях!
– Бывает такая засуха, Тернер, какой не доведется испытать ни одному тупоголовому червю, копошащемуся в земле. Его жизнь протекает в блаженном неведении. Худшее, что может случиться с вашим червем, – выползти на белый свет и оказаться раздавленным.
– Вы джентльмен, – проговорил Тернер, чеканя каждое слово, – и мне за вами не очень-то поспеть. Но кое-что я догоняю.
Лемезурье позволил себе ухмыльнуться.
– И за это я набью вам лицо! – заявил Тернер.
Он поднялся вместе с Гарри Робартсом, на несколько минут ставшим ему другом. Оба шумно задышали. Страсти так накалились, что заполнили всю комнату и казались делом первостепенной важности, перед которым померкло все. Однако Фосс их мигом остудил.
– Ваши личные разногласия меня не интересуют, – заявил он, – мне не важно, кто тут пьяница, кто безумец, кто предатель. Куда больше меня удручает собственное безрассудство: пытаясь воплотить свой великий замысел, я подобен тому червю, Фрэнк, что кусает себя за голову в глубинах земли. Вы оба, Тернер и Фрэнк, часть этого странного и вроде бы невыполнимого замысла. Меня тяготит, что я не могу от него отказаться, несмотря на все мыслимые и немыслимые трудности. Я просто не могу! А теперь покиньте эту комнату, которая принадлежит мне, если помните. Также не забывайте о том, что улица принадлежит всем жителям этого города. Когда мы увидимся снова, полагаю, вы уже смиритесь с недостатками друг друга, поскольку нам предстоит провести вместе весьма продолжительное время.
После никто не вспомнил, каким было при этом его лицо. Хотя слова немца всем очень даже запомнились: он отчеканил свою отповедь, пнул комок засохшей грязи, лежавший на ковре, и тот гулко стукнулся о деревянную обшивку стены.
Когда удалились все, включая беднягу Топпа, мечтавшего остаться и за вином побеседовать на философские темы, Фосс пошел в заднюю комнату, сбросил одежду и, по обыкновению, не раздумывая, лег в кровать и сразу уснул. Он рухнул в глубины своего «я». Никто не смог бы нанести реальный ущерб его Идее, как бы они ее ни царапали. Люди извергали слова. Люди выкашливали свои сухие души, и те рикошетили горошинами. Тщетно. Из того самого песка, по которому Фосс ступал с таким благоговением, словно то был драгоценный бархат, гранитным монолитом произрастала его нетронутая никем Идея. Не считая, увы, Пэлфримена. Черт лица немец не различал, но само присутствие этого человека пронизывало весь его сон. И теперь Фосс ворочался на жесткой кровати. Ночь выдалась влажная. Руки спящего тщетно пытались освободить тело от сковавшего его пота.
Утром солнце сияло ярко, под ногами скрипела красная песчаная пыль. Погода наконец устоялась. Фосс отправлялся по делам в высоком черном цилиндре и за несколько дней обошел всех торговцев. Он остановил выбор на вьючных седлах О’Халлорана. Он договорился с Пирсом насчет восьмидюймового секстанта, призменных компасов, барометров, термометров и прочих приборов. С мельницы Бардена должны были завезти двухгодичный запас муки прямо на корабль.
В четверг, судя по краткой записи в дневнике, он встретился с Пэлфрименом, прибывшим в город из Парраматты, где гостил в поместье друга и поправлял здоровье после болезни.
Пэлфримен и Фосс провели вместе некоторое время – прогулялись по Ботаническому саду, поговорили, помолчали, настороженно приглядываясь друг к другу и обдумывая трудности, неизбежно возникнущие в ходе совместного участия в будущей экспедиции.
Ростом Пэлфримен не вышел, зато спокойный и прямодушный взгляд поднимал его до уровня большинства прочих мужчин. Лицо ученого, обычно обгоравшее на солнце до желтовато-коричневого цвета, что типично для людей со светлой кожей, из-за недавней болезни приобрело зеленоватый оттенок, черты стали немного размытыми. Серые глаза в запавших глазницах под темными веками смотрели очень прямо. Верхнюю губу он брил, нижнюю же часть лица закрывали коричневые бакенбарды. Одевался Пэлфримен аккуратно, но без щегольства, в серое, и в результате на его фоне немец в теплом сюртуке и черных помятых брюках смотрелся крайне неряшливо. Всю прогулку Фосс стыдился и судорожно смахивал пыль с рукавов, и пару раз даже нервно дернулся.
– Хватит ли у вас сил, чтобы отправиться в это путешествие, мистер Пэлфримен? – спросил он и нахмурился, подумав о чем-то своем.
– Сил у меня предостаточно.
На солнце англичанин часто и изумленно мигал, словно дневной свет казался ему слишком ярким.
– Жена и дочери моего друга Стрэнга откармливали меня яйцами и сливками бог знает сколько недель! Прискорбное происшествие, хотя на деле я лишь немного защемил спину, когда упал с лошади. Признаюсь, сперва я был потрясен. Всегда страшился стать инвалидом из-за травмы спины. И вот он я, совершенно здоровый!
Фоссу, который также не отводил глаз от яркого света, пришлось улыбнуться. Точнее сказать, осклабиться. Он покивал, втянув ртом воздух и пытаясь изобразить внимание к собеседнику.
– Кроме того, – продолжал орнитолог довольно мягким голосом, – другого такого предложения мне придется ждать долго. Ваша экспедиция – именно та возможность, к которой его сиятельство питает особый интерес.
Пэлфримен прибыл по поручению некоего желчного английского лорда, бывшего в силе при предыдущем правлении и увлекавшегося коллекционированием всевозможных вещиц – от драгоценных камней и музыкальных инструментов до чучел птиц и тигров. Его сиятельство редко осматривал собранные в своем палладианском особняке сокровища, разве что иногда, повинуясь внезапному порыву, выдирал из стеллажа ящик с птичьим гнездом, чтобы взглянуть на скорлупки яиц или порадовать очередную пассию стайкой колибри на тонкой проволоке. Истинной страстью лорда было собирать и владеть. Когда же безжизненные экспонаты ему наскучивали, их в спешном порядке запаковывали и передавали в какой-нибудь национальный музей.
По поручению лорда Пэлфримен и посетил Новый Южный Уэльс. Даже если побудительным мотивом поездки стал всего лишь чужой каприз, профессиональная честь ни за что бы не позволила орнитологу этого признать. Он был настоящим ученым. Возможно, его утешала преданность науке или даже религиозная вера. Как бы то ни было, доверчивая натура Пэлфримена перекинула мостик в виде культа полезности и успешно соединила оба берега его жизни, невзирая на многочисленные несочетаемые географические особенности и сильное течение между ними, которое сам он замечал крайне редко.
И вот теперь Фосс и Пэлфримен, которых беседа водила по всевозможным уголкам Ботанического сада, очутились на самом настоящем мостике. Обстоятельства сложились так, что свели их вместе, хотели они того или нет.
Фосс сказал:
– Ничуть не сомневаюсь, мистер Пэлфримен, что у вас еще будет возможность преследовать интересы вашего покровителя в неизведанных землях к западу от Дарлинг-Даунс. Я всего лишь беспокоюсь о вашем здоровье.
На жалком декоративном мостике оба смотрелись весьма гротескно. Они стояли, глядя вниз и совсем не замечая, что там находится. Собственно, кроме перепутанных мертвых листьев кувшинок, и глядеть было не на что.
– Мое здоровье, – проговорил Пэлфримен, – всегда было вполне сносным.
– Вы – человек воли, как я посмотрю! – рассмеялся Фосс.
Похоже, Пэлфримен понимал, что немец хочет от него избавиться, поэтому сказал:
– Это вовсе не вопрос моей воли, мистер Фосс. Скорее, тут вопрос воли Господа, которому угодно, чтобы я осуществил взятые на себя определенные обязательства.
Фосс выставил вперед плечи, словно желая защититься от неприятного разговора. Потом снова выпрямился и стал выше маленького, но уверенного в своей правоте Пэлфримена, чьи серые глаза все еще были устремлены на увядшие листья кувшинок.
– Ваш моральный настрой наверняка понравится мистеру Боннеру, – проговорил Фосс. – Он считает, что проходимцы, которых я набрал в экспедицию, не отвечают ее высоким целям. Как и большинство джентльменов, преуспевших в сфере ценностей материальных, мистер Боннер чрезвычайно озабочен моральным аспектом.
Немец с удовольствием прошелся бы по этой теме, но остроумие ему не было свойственно. Даже смех его звучал весьма натужно на фоне двух или трех банановых деревьев, которые покачивались на ветру у собеседников за спиной.
– Глядите! – указал Пэлфримен на муху с прозрачными крылышками, усевшуюся на перила мостика.
Похоже, он настолько впечатлился насекомым, сверкавшим всеми цветами радуги, что едва ли услышал слова Фосса, чему последний был отчасти рад.
Немцу хотелось обрести полную уверенность, сомнения в которой проистекали не из слабости его брони, а из явной неспособности ослабить силу своего компаньона. Естественно, осознавать это было неприятно.
Впрочем, вскоре Фосс совершенно овладел собой. Рядом с ним снова стоял рассеянный орнитолог, тычущий упругим пальцем в насекомое, кроме которого его явно ничего не интересовало.
Муха тут же улетела, и двое мужчин продолжили обсуждать практические вопросы. Фосс согласился свести Пэлфримена с мистером Боннером на следующий же день.
– Знаете, он человек достойный, – сказал Фосс. – Щедрый и надежный. Лучшего покровителя и желать нельзя.
Пэлфримен едва улыбнулся – по его полному задумчивому лицу будто скользнула тень перенесенной болезни.
– Берегите себя, мой дорогой, в этом городе неожиданных опасностей, – мило сказал Фосс при расставании у залитых солнцем ворот.
Фосс мог быть весьма мил и очень к тому стремился. Он улыбался с неподдельным обаянием, несмотря на острые зубы, и даже положил руку коллеге на плечо, что было для него нетипично.
Потом они расстались. Пэлфримен, живший в своем иллюзорном мире, пребывал в отличном настроении и шел не торопясь. Фосс поспешно направился по делам, и штанины его брюк захлопали на ветру.
В последующие дни немец подспудно размышлял о воле Божьей. Пестовать веру, как ему представлялось, надлежало исключительно женщинам – где-нибудь между приготовлением джема и глажкой белья. Он вспомнил племянницу Боннера, церемонную и наверняка чванливую девицу, которая носила свою веру, перекроив ее на женский лад. Пожалуй, в отличие от большинства ей присуща какая-то безучастная элегантность. Изредка ему попадались мужчины, принимавшие смирение без всякого стыда. Вполне возможно, что в порыве самоотречения личности такого склада испытывали некий чувственный восторг. Иногда Фосс с досадой отмечал, что ему подобные переживания недоступны, хотя и гордился этим. Да они буквально сливаются воедино с концепцией своего Бога, возмущался немец. Такие мужчины сродни женщинам! И все же ему вспоминались взгляды Пэлфримена и старика Мюллера – обоих он всегда сторонился, к обоим старался не привязываться.
Так оно и шло, и день отъезда приближался.
Несколько раз ему снова вспомнился тот старик, отец Мюллер. В начале года Фосс гостил в общине Моравских братьев около залива Моретон. Стояла пора сенокоса. На щетинившиеся стерней поля снизошли эфемерные цвета мира и спокойствия. Картинка врезалась ему в память: низенькие побеленные хижины братьев, тонкие, но крепкие сероватые деревца, загорелые ребятишки. Вся община вышла в поля и собирала урожай. Несколько женщин взяли грабли и вилы и сгребали сено или бросали его на телеги своим мужьям. Пришли даже два старых пастора, сменив черные сутаны на вполне мирские серые комбинезоны. Работали все. Над ними возвышалась фигура отца Мюллера, основателя поселения. И такие покой и доброта чувствовались в этой типично мирской сцене, в игре света и тени, в изобилии благоухающего сена, что они вполне могли бы исходить из души старого квиетиста.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Спасибо (нем.). – Здесь и далее прим. пер.
2
Увы. Неужели?
3
Джадд – английский вариант имени Иуда.
4
Время не стоит на месте(лат.).