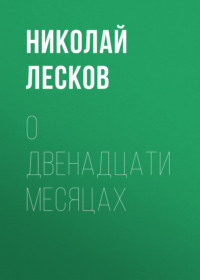полная версия
полная версияРакушанский меламед

Николай Лесков
Ракушанский меламед
Рассказ на бивуаке
Глава первая
Дело было для нас неудачливо: мы отступили, но, к счастию, неприятель нас более не тревожил и давал нам время отдохнуть и оправиться. Мы расположились бивуаком в безопасном ущелье, разделясь самыми маленькими сторожевыми отрядами. Нашим отрядом командовал маиор Никанор Иванович Плескунов, очень добрый, спокойный и мужественный офицер и изрядный оригинал, из вымирающей породы лермонтовских Максим Максимовичей. Он считал за собой одно немаловажное, по его мнению, преимущество, что с тех пор как произведен в офицеры, все время служил «в серых войсках». Так он называл таможенную стражу, по которой числился, состоя начальником небольшой команды на одном из весьма известных контрабандных пунктов на австрийской границе. Война с турками его рассердила, и он бросил свой «серый пост», и перевелся в действующую армию.
Маиор Плескунов был не стар и не молод, не высок ростом, коренаст и немножко мужиковат в манерах и в движениях, но был, как я сказал, прямая душа, добрая, и во всех своих суждениях и взглядах на вещи оригинал. Он был беззаветно храбр, хотя по наружности казался изрядным рохлей: не горячился, не вскидывался, не подымался на дыбы, но не робел и не падал духом, а всегда и везде рассуждал и действовал с настоящим твердым мужеством и с «прохладкой». Похвальбы он терпеть не мог и считал ее недостойною военного человека и вредною.
– Это, – говорил он, – дело купеческое; наври, чтобы было можно из чего уступить, а потом и спускай. А наше дело солдатское, тут что Бог даст.
Понятно, что, держась такого правила, он не имел в своем обычае ни малейшей тени самохвальства и задора. Речей он никаких не говорил, ни обширных, ни кратких, кроме общего внушения:
– Делай свое дело, не стой на месте, когда шлют вперед, и не хвались вперед, чья будет горка, а работай.
Горка – это была его поговорка, то есть, чья возьмет, чей верх будет.
Солдаты Плескунова любили и называли его «настоящим командиром».
– Форсу, – говорили, – не задает, а воюет как надо и судит умно: делай, говорит, как надо, а горку кому Бог даст, на то Его воля, а не твое распоряжение.
Хорош Плескунов был и с офицерами, и с нами, юнкерами, которых у него в батальоне было немало. Между нашими офицерами водились люди довольно различного калибра: были у нас и настоящие армейцы, были и «привилегиранты», прибывшие к Балканам из дальней северной столицы. Никанор Иванович не делал между ними никакого различия и держал себя со всеми с нами на самой короткой, товарищеской ноге, хотя, впрочем, очевидно, в деле оказывал больше доверия настоящим армейцам и политиковал, говоря, что «у привилегирантов мундиры дорого стоят, их надо пожалеть». Но, поступая таким образом, он все-таки не любил, чтобы армейцы задирали привилегирантов или как-нибудь над ними подсмеивались.
О храбрости Плескунова и о его преданности делу, за которое он пришел сражаться, покинув свою таможенную стражу, не могло быть и речи; первая достаточно доказывалась многочисленными рубцами, которыми все лицо Никанора Ивановича было изборождено от контрабандистов, с которыми он вел тридцатилетнюю войну, без единого дня перемирия. А что он считал войну за славян близкою своему сердцу, в этом убеждало то, что он оставил для нее свою старуху, о которой ничего не говорил, кроме как то, что «она набожна», но которую, очевидно, любил очень сильно.
Ни главного, ни ближайшего своего начальства Плескунов никогда не критиковал и терпеть не мог слышать что-нибудь подобное от других.
– Что тебе до него за дело? – говорил он, стараясь всегда остановить критика. – Хорошо нам с тобой рас суждать, как у нас ума мало, а они, может быть, больше знают и путаются. Ты, что ли, в ответ за него пойдешь? Свой нос, смотри, в чистоте содержи.
Плескунов имел нерасположение к «политиканам», в числе которых считал всех интересующихся газетными толками и делающих по этим толкам какие бы то ни было предположения о высших соображениях и общей судьбе событий. Газеты же просто ненавидел, – и все равно без различия, какого бы они ни были направления, о чем, впрочем, он едва ли и имел надлежащее понятие. Он был о газетах того мнения, какое одно из грибоедовских лиц высказывало о календарях: «Все врут календари».
– Врут-с, – говорил Никанор Иванович.
Впрочем, Никанор Иванович и вообще с печатью не дружил, окромя как с церковною, в которой был весьма начитан, так как, по его рассказам, они с женой эти книги всегда друг другу в зимние вечера «гласно» читали. Если же у кого-нибудь в отряде появлялся листок газеты, которую тот намеревался прочесть прочим, то Плескунов сейчас звал казака и нарочно громко чем-нибудь распоряжался. Иной раз, не зная что сказать, он посылал «пошарить», нельзя ли где-нибудь достать для него бутылку чуфурляр-лафиту.
Что это за вино имело быть, этот «чуфурляр-лафит» – мы не могли себе представить, и думали, что Плескунов его просто нам на смех выдумал. Но Никанор Иванович уверял, что в Балканах непременно есть такое вино, что его отец, когда делал прошедшую турецкую кампанию, так пил чуфурляр-лафит и помнил о нем до самой смерти; а потому как Никанору Ивановичу станет что-нибудь досадительно, он сейчас и вспомнит.
– Ведь не может же быть, чтобы наши тогда его весь выпили; а если выпили, так с тех пор нового надо было намять. Ступай, братец казак, пошарь хорошенько, – непременно должен найти.
Казак отправлялся «шарить», но обыкновенно всегда шарил безуспешно: вина или совсем не было, или же казак, шаря, находил вино, но только это было не чуфурляр-лафит.
Плескунов и этим довольствовался: он пил, что ему добывал казак, и говорил, что чуфурляр-лафиту надо будет в другом месте пошарить. Впрочем, вся эта возня с чуфурляр-лафитом поднималась только тогда, когда маиору угрожало слушание газет.
Все мы знали эту слабость нашего доброго маиора и порой его щадили, а порой ему досаждали: нарочно заводили с ним спор, доказывали, что в наше время невозможно так вести дела, чтобы не читать газет, не думать и не соображать по ходу дел: чья будет горка? И в тот раз, с которого начинается мой рассказ, мы были на этот счет очень упрямы: горе каждого из нас брало, и досады много накопилось, и ничего-то путем нигде узнать не можем, а тут еще этот чудак с своими рацеями.
– Что тебе знать хочется? Себя знай хорошенько! Ума, что ли, очень много набралось, тяготить начало! Ступай за пригорок, высунь лоб. Турок сейчас лишнее выпустит.
Мы его и принялись допекать и, может быть, первый раз за всю кампанию так пропекли, что он уж не одного, а двух казаков послал шарить, как мы в ту пору думали, нигде не существующего чуфурляр-лафита, а сам даже отошел от нас в сторону. Но добрая душа его не умела долго сердиться, да верно и он не всем был доволен после несчастливого дела, выбравшись из которого мы не досчитывали и половины своих товарищей.
Нельзя было не чувствовать, что нам жутко и горько, и Плескунов, понимая это, сдал тону: он вернулся к нашему кружку, где жарился болгарский баран, и терпеливо слушал наши сетования.
Тут ему кто-то из нас и молвил:
– Что же, Никанор Иваныч, и теперь еще не станете ли ругаться, что смеем считать себя несчастливыми?
Он вздохнул и отвечает:
– Нет; что же ругаться: мы с женой у Исаии пророка читали, что «усталый и голодный на самого Бога ропщет», стало уж этому так надо быть. Поругайтесь, поругайтесь, может быть, вам от этого полегчает; а как отлежитесь да поедите, так, может, и сдобритесь.
Но мы и на это не сдавались.
– Поесть, – говорим, – мы поедим, а при своем останемся, что нехорошо идет.
– Нехорошо-то, – отвечает, – нехорошо, и говорить нечего, а все еще повременим: чья будет горка?
– Да нечего, – говорим, – и временить, когда уже видно: на чьей стороне горка, если все так будет.
– Ну, я еще этого не вижу, да и удивляюсь, в чем вы это видите?
Тут наши политиканы и пошли:
– Как в чем? – говорят: – а во что вы ставите все эти подыски всей Европы при коварном нейтралитете Беконсфильда, виляньях Андраши и…
Словом, и пошли, и пошли. Все ему высчитали, чего от кого ждать, кому не верить и чего бояться. И свели опять к тому, что нынче-де уже не те времена, когда можно было во всем полагаться на силу да на отвагу, а нужен ум и расчет, да капитал. Что капитал – душа движения, и что где будет больше дальнозоркой сообразительности, тонкого расчета и капитала, на той стороне будет и горка. А у нас, мол, и ни того-то, и ни этого-то, да и жиды одолели: и в Лондоне жид, и в Вене жиды, страсть что жидов, и у нас они в гору пошли – даже и кормит нас подрядчик, женатый на Беконсфильдовой племяннице, да и самые славяне-то, за которых воюем, в руках венских жидов. Что же этого безотраднее: жид страшный человек, – он все разочтет, всех заберет в свои лапы и всех опутает.
Никанор Иваныч и рассердился.
– Ну вот, – говорит, – еще что вздумаете: уж и жид у вас стал страшный человек.
– А, разумеется, страшный, потому что он коварный, а коварство – большая сила: она, как зубная боль, сильного в бессилие приведет.
А Никанор Иванович отвечает:
– А мы зубную боль заговорим.
– Да, да; вот это разве! Ну, так пошлите-ка казака «пошарить», где такого мастера найдете?
– А что же, казак, разумеется, найдет.
– Да; найдет он их, вот все равно как вашего чуфурляр-лафиту.
– А что же: надо веру иметь и ждать, и лафиту достанет.
И что же вы думаете. В эту самую минуту, как нарочно, к Плескунову бежит казак и подает бутылку, а на бутылке надпись: «чуфурляр-лафит». Даже сам Никанор Иванович смутился и спросил:
– Где ты это спер, благодетель?
А казак отвечает:
– Никак нет, ваше высокоблагородие: у маркитанта взял.
– Что же он прежде-то его не давал?
– Давно, – говорит, – с собой вожу, только подавать не смел, больно пакостное.
Маиор отбил горлышко, сплеснул немного в сторону, попробовал и говорит:
– Хорошо, братец, маркитант тебе правду сказал: винишко поганое, и я теперь вспомнил, что мой отец его пил совсем не в Турции, а на Кавказе; ну да не в том дело; а это, господа, вам ответ: видите, – пошарить, так все найдешь. Я политики не читаю и споров не люблю, но ничего, чем вы меня пугаете, не боюсь. Спросите: почему? Отвечу вам: «по Писанию». О Тире сказано, что там не будет горка, где «князья купцы и где сильные земли барышничают», а сила в тех, кои «не видали самоцветных камней и не завистны на золото». Оно так и бывает, как пророк говорит, и мне теперь приходит на память одна история про самого что ни на есть каверзнейшего тонкого израильского политика, который в своем месте все пружины в руках держал и во всем собаку съел, а запил таким чуфурляром, что и с ума спятил. И я, чтобы не позабыть и чтобы вас кстати немножко поразвлечь, пока баран сжарится, пожалуй, готов вам это рассказать в виде притчи…
Тут все и заговорили:
– Помилуйте, Никанор Иванович, да когда же мы не хотим вас слушать? пожалуйста, расскажите.
Никанор Иванович и начал.
Глава вторая
Старый Схария, про которого я вам буду рассказывать, был, так сказать, прирожденный политик, ученый-преученый и притом святой, которому, казалось, все было открыто и само небо с ним перешептывалось. По занятиям он был меламед, держал школу, где юные сыны Израиля получали высшее направление на весь проспект жизни. Жил Схария от меня всего в полуверсте, в торговом местечке, по тот бок австрийской границы; а славен был по обе ее стороны.
Схария был человек старый и для своих мест очень богатый. Состояние он нажил своею обширною ученостью, святостью и плутовством. Если бы вы знали еврея как следует, то не удивились бы, что все эти три вещи в нем не только совершенно совместимы, но даже одна другую требуют, а не исключают. Сколько именно было лет этому патриарху, я с точностью определить не берусь, потому что, когда я, тридцать лет тому назад, поступил на таможню, Схария уже был меламед, обучивший ряд поколений, и тогда уже был почти так же стар и ходил с такою же седою бородой, с какою ходит и нынче. Только нынче он слывет безумцем и служит поношением и посмешищем для безумцев, а до того анекдотического случая, который его таким сделал, он был у всех в почете, в ласке; он первенствовал на молениях, председал на пиршествах и везде имел решающий голос. Как наисовершеннейший знаток закона и наилучший его истолкователь, что бывало он скажет, то так и делается. Ныне же жизнь его пригодна только разве на то, чтобы показать основательность слов Псалмопевца: «не хощет Господь смерти грешника». Но некогда было совсем иное: ученая слава Схарии была так велика, что говорили, будто ей завидовал сам караим Фиркович. Святость Схарии равнялась его учености, но славилась еще более первой. Разумеется, это была та каверзная праведность и та убивающая дух ученость, которыми огорчался наш Спаситель и за которые возглашал: «горе вам, горе и горе».
Схария знал все, чрез что можно прослыть праведным между евреями, и с этой стороны был для многих, и в том числе и для меня грешного, необыкновенно интересен. Он жил весь по правилам, «почивал на законе»: каждый час дня и ночи, каждый его шаг и движение, – все это шло так, чтобы могло возвещать его преподобность. Кто знает, что значит соблюсти всю еврейскую обрядовую праведность, тот знает, как это трудно. Я же, весь свой век проведя с евреями, могу вам это показать, хотя, разумеется, только отчасти.
Наблюдая наказ рабби Елиазара, Схария просыпался до рассвета, но как бы ему ни хотелось встать, он не вставал и даже знака не подавал, что он проснулся, и так лежал до тех пор, пока его не побудит жена. Это так должна сделать каждая воспитанная в законе еврейка. И зато в ту самую секунду, как жена его будила, он сразу же вскакивал и на весь дом кричал: «Благословен Бог, одаривший петуха разумом, что он различает день от ночи», а потом читал вслух: «Восстану рано». Все это делалось так энергично, что все в доме проклинали «восставшего рано», но непременно и сами поднимались. Схария никогда не надевал рубашки сидя или стоя, а исправлял все это непременно лежа под одеялом, чтобы сатана, подсматривающий за каждым евреем, не увидал бы его чудесного тела и не вздумал бы сам смастерить что-нибудь, если не совершенно такое, то, по крайней мере, хоть подходящее к еврею. Схария никогда не позабывал спуститься с кровати непременно правою ногой. Умываясь, он аккуратно обливал каждую руку по три раза и вытирал лицо так сухо, чтобы не испарилась память.
Пергамент с написанными на нем словами из книг Моисея был у него обмотан волосами из телячьего хвоста и снабжен прикрепленным к нему репейником, который должен был колоть Схарию, если он задумает как-нибудь нарушить какую-нибудь из десяти заповедей. Колол ли его этот репейник или нет, этого не знаю; но поколоть, кажется, было за что. Свитки на дверях дома этого законника были самые полномерные; их все должны были издали видеть и понимать, что на дом Схарии снисходит беспрестанное благословение, как на браду Ааронову и на ометы его риз.
Никто никогда не видал, чтоб у Схарии хранилище висело на ремешке или оставалось не спрятанным в три коробочка, если в той комнате спали женщины; хранилище он надевал на себя, как только можно было отличать белый цвет от голубого и носил до темноты. В школу Схария не шел, а бежал, чтобы Бог видел, что он «духом гоним». Его талос или мантия была из белой шерсти, выпряденной еврейкой, и притом с известными приговорами. Молился он много и долго, оборотясь непременно на юг, откуда идет мудрость, а с нею, разумеется, и все благополучия. Люди алчные и глупые молятся на север, откуда приходит богатство, но Схария, как Соломон, знал, что все дело в премудрости. Он молился, всегда тщательно выровняв ноги в первой позиции, и качался, и трясся не щадя колен, чтобы ангелы видели, как сильно колеблет его страх пред Вездесущим. Моленья свои он сначала выкрикивал по-еврейски, а потом посылал особые молитвы по-сирски и по-халдейски, чтобы ангелы, не понимающие этих языков, не позавидовали тому, чего он просит у грядущего Мессии. Еще более тонкая осторожность нужна была против диавола, чтобы этот хитрец не проведал о прошениях Схарии и не повредил ему; но это было предусмотрено: диавол никогда не мог узнать, чего просит Схария, потому что диавол тоже по-сирски и по-халдейски не знает, а обучиться этим языкам не может, потому что учиться у человека ему не позволяет его пустая «свинячья» гордость.
Если Схарии случалось плюнуть во время молитвы, то он делал это невежество не иначе, как в левую сторону, чтобы не оплевать толпой на него любовавшихся с правой его руки ангелов. Каждый день он воссылал сто благодарений, и так на виду у людей и ангелов пребывал в моленьи почти весь день. Отдых его начинался только с той поры, когда наступающие сумерки возвещали, что Егова уже дал ангелам приказ затворить двери и окна неба. С этих пор, разумеется, оттуда на землю уже ничего не было видно и потому чиниться было нечего, да и продолжать самое моление не было никакого расчета.
Но большая ученость Схарии обнаруживалась не в одном только богомолении, – нет, она также была видна во всех его житейских поступках: он развелся с несколькими женами по одному подозрению, что они происходят не от Евы, а от первой жены Адама, строптивой Лалис, и, подобно своей матери, склонны заниматься не одним тем, чтоб угождать мужу. Сам же он никогда не смотрел в лицо никакой сторонней женщине, хотя бы даже это была недостойная внимания христианка. Все были уверены, что он ни разу не видал лица кряду десять лет служившей у него молчаливой и тупой хохлуши Оксаны, о которой я прошу помнить, потому что ей в моей повести будет своя роль.
Любя во всем ортодоксальный порядок, Схария сам подавал в нем первый пример повиновения «Закону»: он ломал хлеб не прежде, как растопырив над ним все свои десять пальцев, чтобы все видящие это воспоминали о десяти «божиих приказаниях». Заботясь о нравственности и о душе, он не забывал и гигиену, для чего всегда завтракал рано, чтобы в желчь его по пустому проходу не успели вскочить с голодом тридцать шесть болезней, а, обедая, – поспешно отделял Оксане кусок от всякого кушанья, имеющего вкусный запах, способный возбудить в человеке аппетит. Делалось это не из сострадания к нетерпеливости Оксаны, а для того, чтобы она от жадности не затряслась, как Исав, и не опрокинула другого блюда. Все знали, что Схария во всю свою жизнь никогда еще не уронил на пол ни одной крошки хлеба, и строгий ангел Набель, приставленный смотреть за этим, ни разу не мог сделать на него в этом смысле доноса по начальству. К ангелам Схария наблюдал большую осторожность и никогда не клал ножа лезвием вверх. Даже этого докучного наблюдателя, Набеля, он и того берег, чтобы он, вертясь у стола, как-нибудь не обрезался.
Схария не умствовал о том, «чи все добре на свити – чи не все дюже добре». Боже сохрани! Он благословил Бога за все, что понимал и чего не понимал, потому что все устроено премудростию, даже тупая Оксана и вообще все прочие дураки, так как они, по уверению рабби Геноха, созданы для увеселения умных, а в числе таких умных был, конечно, наш мудрый и ученый Схария, которого все давно признали в этом чине. И его действительно увеселяла сильная и глупая наймычка Оксана, когда она позволяла колотить себя не только жене Схарии, золотушной Хаве, но и всем крошечным ребятам Схариина отрождения. По огромной силе своей, с которою эта Оксана молча и без отдыха ворочала в доме все тяжкие работы, она могла бы смахнуть и Схарию, и Хаву так, что ничего бы от них не осталось, а она все сносила безропотно и много содействовала тому, что Схария мог благоугождать Богу, благословляя его, что он создал такую невежественную дуру для удовольствия всех домашних такого ученого праведника, как он, Схария. Опытом убежденный, как хорошо жить по «Закону», он даже спал по «Закону»; для этого он всегда ложился на левый бок, на котором лежал Исаак, когда Авраам хотел заколоть его в жертву Богу, и так Схария почивал всегда, как готовая жертва. А чтобы еще более уподобляться Исааку, он всегда спал нагой, без рубашки, и на кровати, обращенной непременно головами к югу, а ногами к северу.
При таком радении о житье по «Закону», семя Схарии множилось и обещало ему славу в потомстве. От нескольких браков у него были в живых и женатые сыновья, и замужние дочери, и маленькие дети, а еще немало их было и на местном кладбище. Схария любил детей, даже и тех, которые были зарыты в землю. Благочестивый отец и о них заботился; он каждый год нанимал несколько человек, чтобы те за них постились, и платил за это каждому говельщику, по крайней мере, по двадцати гульденов в неделю; а в день разорения храма он сам собственноручно клал на могилы детей соль и муку и кричал им в землю, чтобы они за то хорошенько о нем молилися и выкликали ему столько новых детей из пределов небытия, сколько он прокормить может. Словом, жизнь Схарии была образцовая и препочтенная: как настоящий местечковый патриарх, он давал решающий совет во всех трудных делах и, должно сказать правду, достоинство его советов стояло чрезвычайно высоко и каждому приносило несомненную пользу, а это делало Схарию необходимым человеком, которому всякий охотно уступал долю в гешефтах.
Таким образом, праведность была основанием прочного благосостояния Схарии, а благосостояние опять давало ему средство еще более увеличивать свою праведность. Он был уже так прославлен, что чтец синагоги, обходя собрание с предложением купить право развернуть и носить книгу закона, хотя и выкликал: «Кто хочет купить Гелиу? Кто хочет купить Ец-Хаюм? Кто хочет купить Хахбо? Кто даст более?» – но в существе чтец исполнял это только для формы. На самом же деле он знал, что священные права никто другой откупить не может, кроме Схарии, потому что никто за них более его предложить не в состоянии. А потому только один Схария всегда носил свиток закона и держал «древо жизни», а его ближайшие родственники имели привилегию, ходя за ним, прикасаться к этой святыне, в то время как их ученый родоначальник, приняв из рук кантора свиток, обносил его посреди умиленной толпы. Ему кантор давал серебряным грифелем знак, когда вскричать: «Возвеличьте Господа!». На его зов весь народ привык отвечать: «Благословен Господь Бог наш, избравший нас пред всеми иными народами», – и над ним всегда произносилось благословение: «Со всем его домом, где соблюдены все заповеди и где всякое задуманное предприятие должно быть благоуспешно». Потому все самые ловкие контрабандные предприятия задумывались в благословенном доме Схарии в те сумеречные часы, когда запиралось небо, и у него же хоронились их концы.
Вот какой был Схария поистине важный из важных человек. Сместить его с его высокого положения, казалось, никто не мог: все знали, что как ни подними цену последнего урока «Закона» в день Кущей, Схария все-таки откупит этот урок и опять на целый год останется «женихом Закона». Ну, вот и посудите, как можно было одолеть такого тонкого и дальновидного человека и какой для этого был нужен борец? А пришел час Схарии, и разбило всю его механику громом, да не из тучи, а из навозной кучи.
Глава третья
По моей дозорной, таможенной обязанности я, разумеется, знал всех окрестных евреев по обе стороны своей границы – как наших русских подданных, так и австриаков. Это нашему брату, таможенному, необходимо, потому что нас все стараются обмануть, особенно евреи. Это первые наши неприятели, и мы должны знать, сколько какая шельма из них в этом искусна. Сведения эти у нас, пограничных жителей, собираются очень просто, так как граница для нас ведь совсем не то, что она для вас и для всех других людей, которые ее видят раз либо два в жизни. Вы, когда переезжаете границу, будто из одного мира в другой переходите; а для нас это просто дело соседское. Мы смотрим на границу без впечатлений, а знаем только, что и у них, и у нас есть молодцы, которые нашего брата надувать хотят, и зато никому не верим. Пограничная жизнь этим очень скверная: она тому способствует, чтобы не верить человеку. И мы хотя с иным по виду и ведем дружбу, а все ему пальца в рот не положим. Я даже удивлялся этому и нарочно себя пробовал: к теще с женой повидаться в Воронежскую губернию ездил – и ничего: там всем верую. Иной хоть и знаю, что плут, а верю ему, и по дороге еду – все верю; а как к себе на границу приеду – сейчас и отрезало: никому не верю. Право, удивительно. Так тоже и с этим с праведным Схарией я был весьма знаком и о пророках любил с ним толковать, потому что у меня жена большая до Писания охотница, но все бывало, знаете, говоришь про Данииловы седьмины, а сам думаешь: а когда же я тебя, приятель, в ров посажу! Потому что я знал, как этот праведник по всем швам плутней сшит, и мне очень хотелось его сцапать. Разумеется, я его лично в числе контрабандистов не замечал; но нам было хорошо известно, что в благочестивом доме этого «жениха Закона» затевались самые дерзкие против нас предприятия, и я большую охоту имел наказать его.