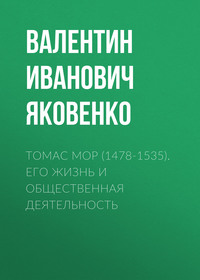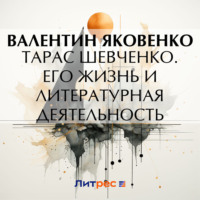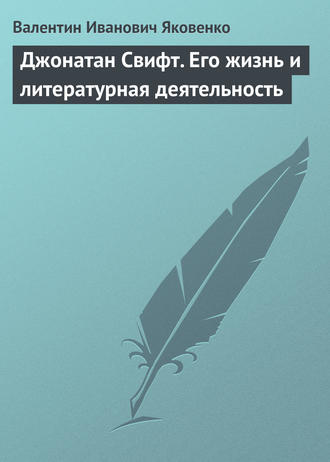 полная версия
полная версияДжонатан Свифт. Его жизнь и литературная деятельность
В первую же из своих поездок в Англию он убедил Стеллу также переехать в Ирландию. Темпль, умирая, завешал ей небольшое состояние, дававшее возможность жить независимо. В Ирландии это состояние могло найти более выгодное помещение и приносить большие доходы. Это был один довод. С другой стороны, Свифт откровенно высказал, что переселение Стеллы для него лично желательно и доставит ему большую радость. Будущая судьба их была решена. Стелла согласилась переехать. Ее сопровождала Дингли, неразлучная спутница всей ее жизни. Дабы предупредить всякие сплетни, Стелла с Дингли приехали в Дублин, когда Свифт находился еще в Лондоне. С этих же пор между ними установился тот modus vivendi[1], который поддерживался все время и сокровенный смысл которого составляет и по сию пору тайну. Стелла жила всегда отдельно; когда Свифт уезжал надолго, она вместе с Дингли перебиралась в его дом; но под одной кровлей они не жили никогда, за исключением случаев болезни Свифта. Мало того, они даже не оставались никогда вдвоем: Дингли служила тем третьим лицом, вечным свидетелем, которого они считали необходимым иметь как бы для того, чтобы всем было ясно, что отношения их не выходят за пределы глубокой дружбы. Но вместе с тем ни Свифт, ни Стелла ни от кого не скрывали, что между ними существует самая тесная дружба: во всех его интересах она принимала живейшее участие, она разделяла все его мысли, составляла центр в кругу людей, собиравшихся у него, и играла обыкновенно роль хозяйки. Несколько раз она сопутствовала ему в его отлучках в Лондон, но и здесь они жили отдельно. Только во время путешествий он видел ее, как пишет в одном письме, один или два раза ранним утром. Понятно, что при таких условиях даже злые языки не могли ничего поделать и ни перед чем не останавливающаяся сплетня не могла бросить тени подозрения на отношения между ними. Но тем непонятней, пожалуй, были эти отношения в действительности.
В 1703—1704 годах, когда Свифт находился в Лондоне, Стеллу стал часто навещать их общий знакомый, некто Тисдалль. Он полюбил ее и хотел на ней жениться. По этому поводу возникла переписка со Свифтом, в которой находим любопытное с его стороны заявление. Намерения Тисдалля были, конечно, очень не по сердцу Свифту: установленному им modus'y vivendi угрожала большая опасность. Ему приходилось определенно и открыто высказаться, любит ли он Стеллу и собирается ли жениться на ней, – или же отказаться от нее навсегда и уступить ее другому. Альтернатива для него была крайне жестокая, и он всячески старался избежать ее. Но, во всяком случае, в его ответе мы не находим ни эгоизма, ни сухости и жестокости, усматриваемой недоброжелательными биографами Свифта. Он вполне охотно допускает, что Тисдалль мог полюбить Стеллу. «Если бы мои материальные средства, – пишет он в ответ ему, – и мое здоровье позволяли мне думать о подобных вещах, то я, конечно, из всех женщин в мире остановился бы на том выборе, какой сделали Вы, так как я никогда не встречал человека, которого ценил бы так высоко, как ее». По поводу же излияния Тисдалля на тему о том, как он любит тихую домашнюю жизнь и как он жаждет ее, Свифт среди прочего иронически замечает: «Весьма сильно завидую Вашему благоразумию и умеренности, а также Вашей склонности к покою и семейной жизни: противоположный удел составляет настоящее злополучие моей жизни, и будущее сулит мне то же». Затем Свифт высказывает свое желание, чтобы сватовство и брак были обставлены надлежащим образом, «с подобающим почтением как по отношению к Стелле, так и по отношению к ее матери». Из всей этой переписки несомненно ясно одно: Свифт любит Стеллу и на ней останавливается как на избраннице своего сердца. Несомненно также, он знал, что Стелла любит его. Что же мешало двум любящим сердцам соединиться навеки брачными узами? И на это опять-таки Свифт совершенно ясно отвечает: недостаток материальных средств и какое-то нездоровье, глубоко гнездившееся в его организме. Конечно, Тисдаллю пришлось удалиться, что называется, несолоно хлебавши. Возвратясь в Дублин, Свифт убедился, что привязанность Стеллы к нему и его влияние на нее лишь возросли. Это, казалось бы, должно было подвинуть его к решительному шагу, неизбежно вытекавшему из их отношений. Но, увы, будущее все еще было для него загадочным сфинксом, и горделивые мечты первым делом требовали для себя удовлетворения, а тогда и только тогда могло оказаться место для любви. Однако горделивые мечты не сбылись, и любовь погибла… Впрочем, будем продолжать наш рассказ, не забегая вперед.
После описанного эпизода наступает семилетний перерыв, о котором мы не знаем почти ничего (я говорю об интимной жизни Свифта). По всей вероятности, его отношения к Стелле, определенные раз и навсегда, оставались неизменными в течение всего этого времени: Стелла его горячо любила и он, по-видимому, отвечал ей тем же, но, вместе с тем, они по-прежнему старательно избегали оставаться наедине, без постороннего свидетеля. В 1707 году они одновременно прожили несколько месяцев в Лондоне, и Стелла перезнакомилась с целым кругом лиц, с которыми был близок в то время Свифт, но и о жизни их в Лондоне мы знаем так же мало. Зато с 1710 по 1713 год Свифт ведет свой знаменитый «Дневник для Стеллы», представляющий богатый материал как для биографии его автора, так и вообще для характеристики политической жизни того времени. В эту пору Свифт находился в очень близких отношениях с тори, стоявшими у кормила правления; хотя он не занимал никакого официального поста, но сила слова, сила ни перед чем не отступающей и всесокрушающей насмешки и сатиры доставила ему положение ничем не хуже министерского. Тори видели, что он – их главная защита, и потому его везде принимали, перед ним заискивали, министры приглашали его на обеды и советовались с ним во всех важных случаях. И вот в разгаре партийной борьбы и неустанной политической деятельности он день за днем заносит в свой дневник разные крупные и мелкие события злобы дня – общественные и личные – и пересыпает свои записи ребяческим лепетом. Да, ребяческий лепет – специфическая, и притом неподражаемая, особенность этого дневника. Свифту, вероятно, часто грезилось, что он беседует с восьмилетней Хетти (так называли Джонсон в детстве) в Мур-Парке, и он сокращает, изменяет слова, переделывая их на детский лад и тому подобное. И это таким языком пишет угрюмый и непреклонный ненавистник человеческого рода, грязный циник и так далее… Но что еще любопытнее, он упражняется в этом детском лепетанье, когда ему – 44 года, а Стелле – 30. Что читала она между строк в этих шалостях любимого человека, и какие мысли они питали в ней? А он? Он находит в этой нежной болтовне отраду и утешение, он забывает о своих терзаниях и тщетных попытках добиться определенного положения, соответствующего своим горделивым желаниям, он мечтает в это время о счастии быть вместе и изливает горячую моль– бу о том, чтобы они никогда не расставались больше чем на десять дней. Он обращается к своим леди, как если бы он сидел вместе с ними за одним столом и вел беседу; он играет с ними в карты, сдает, ходит, бьет козырем и так далее. Надоедает проза – он бросает ее, берется за стихи и продолжает ту же болтовню в виршах. Вы совершенно забываете, что имеете дело с человеком, готовым завтра же поражать беспощадной сатирой своих врагов на арене общественной деятельности, как он делал это вчера, быть может, даже сегодня. Вас очаровывает эта непринужденная, чисто детская болтовня. Она, несомненно, есть выражение того нежного чувства, какое Свифт питал к Стелле. Хотя наряду с этою последнею всегда фигурирует Дингли, но вы чувствуете, что это просто лишь ширма, которой, по неразгаданной тайне, он считал нужным прикрывать свои действительные чувства.
Но вот на горизонте злополучной жизни Свифта появляется новая личность, Эстер Ваномри. С ее семьей, состоявшей из матери-вдовы, двух сыновей и двух дочерей, из которых Эстер была старшая, Свифт познакомился в 1708 году. Они проживали в Лондоне и имели порядочное состояние. Эстер Ваномри в то время была 17-летней девушкой. Женщины вообще быстро подпадали под обаяние Свифта. Несмотря на всю свою грубость и резкость в обращении, он производил на них какое-то чарующее впечатление. Посетив в первый раз леди Берлингтон, Свифт просит ее спеть что-нибудь; она отказывается; он настаивает, наконец грубо приказывает: «Пойте, или я заставлю вас петь. Вы, милостивая государыня, кажется, принимаете меня за одного из ваших презренных английских попов. Пойте же, когда я говорю вам». С удивлением леди Берлингтон слушала эти дерзкие слова; она не выдержала, заплакала и вышла вон из комнаты. Встретившись с нею через некоторое время, Свифт как ни в чем не бывало спрашивает: «Скажите, пожалуйста, вы так же горды и в таком же скверном настроении духа, как и в тот вечер, когда я просил вас петь?» Они помирились, и леди Берлингтон стала его горячим другом. Он нисколько не стеснялся исправлять выговор, дурное произношение, и леди не сердились на него; они признавали его своим учителем. Впоследствии он часто вспоминал об «эдиктах», которые ежегодно выпускал в Англии, предписывая всем леди быть предупредительными по отношению к нему и делать первые шаги для знакомства с ним. Нетрудно было бы составить целый длинный список женщин, находившихся в более или менее дружественных отношениях с этим самозванным султаном. Несомненно, в нем было что-то особенное, так привлекавшее к нему женщин; его власть над ними была вообще очень велика.
Молоденькая Ваномри не избежала общей участи. Частые посещения Свифта сблизили ее с ним. Она интересовалась литературой, политикой, стремилась расширить свои познания, была наделена от природы хорошими умственными способностями и страстным, нервным темпераментом. Вполне естественно, что Свифт стал руководителем сначала в ее занятиях и чтениях, а затем и вообще в направлении всех ее мыслей и стремлений. В конце концов молодая девушка страстно полюбила своего учителя. Свифт любил проводить время в семье Ваномри. В легкой и шутливой беседе со своей ученицей он отдыхал от житейских треволнений; ему льстило также ее внимание и интерес ко всем его работам и делам; но он не питал и не обнаруживал никакого страстного чувства. Выехав на время из Лондона, он написал ей коротенькое, но задушевное письмо. Она, конечно, не замедлила с ответом. Они обменялись еще и еще письмами. Ее письма принимали все более и более страстный тон…
Она обнаруживает большое беспокойство относительно его здоровья. «Верно, – пишет она, – Вы подумаете, что я уже слишком часто позволяю себе надоедать Вам… но я не чувствую достаточного самоотвержения, чтобы выносить эту неизвестность…» Чтение книги, замечает она дальше, не подвигается: закладка лежит все на той же странице, где он оставил ее… Она испытывает мучительное беспокойство и будет страдать до тех пор, пока не узнает, поправился ли он, прошли ли его головные боли… «О, что бы я дала, чтобы узнать, как Вы чувствуете себя в данный момент! Моя судьба и так слишком тяжела, – достаточно уже одного Вашего отсутствия. К чему же еще эти мучения неизвестности…» В этих словах уже явно чувствуется страсть.
«Если Вы находите, что я пишу слишком часто к Вам, то Вы должны сообщить мне об этом или вообще написать мне снова, чтобы я знала, что Вы не совершенно позабыли обо мне!..» В ее душу закрадывается уже подозрение, не любит ли Свифт другую, и она пишет: «Если Вы совершенно счастливы, то нехорошо с Вашей стороны не сказать мне об этом ничего, или, может быть, Ваше счастье не имеет ничего общего с моим…» Зная его интерес к политическим делам, она извещает его о различных новостях и старается польстить ему, рассказывая, как ужасно министерство нуждается в нем.
Совершенно ясно, какое чувство воодушевляло бедную Ванессу (Ваномри) и какие мысли скользят у нее между строк. Понимал или не понимал это Свифт, был ли он доступен или нет ее страстному чувству, но он как бы не замечает пламени, зажженного им; он отвечает ей спокойно, снисходительно, рассказывает о своей скучной, одинокой жизни, о своих простых и несложных обязанностях приходского священника, которому более приличествует заниматься своим хозяйством (коровы, плетни и так далее), чем впутываться в партийную борьбу и браться за разрешение государственных вопросов. Скучно все это, он не скрывает, но он не возвратится назад, пока его не позовут… «Покидая Англию, я говорил Вам, что постараюсь забыть обо всем и буду писать по возможности реже…» Рисуя такими красками свою жизнь и выставляя на вид резкий контраст между тем, как он живет, чем занимается, – одним словом, между действительным Свифтом и тем, каким его хочет видеть Ванесса и каким он постоянно представляется ей, – он рассчитывал, быть может, умерить ее восторженное поклонение и охладить ее разгоравшуюся страсть?.. Если так, то удивительно, что Свифт, проникавший в самую глубину человеческих мыслей и душевных движений, мог столь жестоко ошибиться относительно женского сердца. Этот рассчитанно спокойный, холодный тон, это как бы равнодушное описание своей серенькой, скучной жизни, это намеренное отрешение от той кипучей деятельности, к которой его беспокойный гений чувствовал вечное влечение, – все это имело совершенно обратный эффект, лишь подбавляло огня, и Ванесса металась, обуреваемая своею страстью. Быть может, Свифт не решался нанести окончательного удара из своей доброты и деликатности, таившихся, несмотря на весь грубый внешний цинизм, в глубине его сердца?.. Может быть, сам Свифт поддавался страстной любви молодой женщины и бессознательно питал ее страсть? Как разгадать истинный мотив его поведения теперь, когда прошло столько времени и когда от живого человека остался только тусклый образ в – виде разных воспоминаний, впечатлений, рассказов, писем, более или менее случайных заметок? Можно с достоверностью утверждать лишь одно: Свифт знал, что Ванесса питает к нему безумную страсть, – она сама, по-видимому, открыто призналась ему в этом, – и держал себя без всякого видимого умысла со своей стороны так, что чувства несчастной девушки росли и разгорались. В конце концов, когда Свифт получил место декана при церкви Св. Патрика в Дублине, Ванесса решилась переселиться в Ирландию, несмотря на его предупреждения, что они будут видеться редко.
Мы видели, какой задушевностью, какой нежностью веет от «Дневника» Свифта на первых порах; он поглощен всецело мыслями о Стелле и, можно сказать, всецело принадлежит ей. Но чем сильнее начинает он увлекаться житейской борьбою, чем больше отдается политическим страстям, чем теснее сближается с министрами и людьми, стоящими у власти, тем суше становится его дневник: дорогой образ начинает заволакивать какой-то туман, между Свифтом и Стеллой становится, очевидно, что-то совершенно постороннее и чуждое этой последней. Но этим «что-то» было вовсе не лицо, не женщина – а пожиравшая страсть Свифта стоять во главе политических дел. Ванесса не только преклонялась перед ним, но и разделяла или, по крайней мере, делала вид, что разделяет все его политические треволнения, интересовалась тем же, чем и он, вращалась в том же кругу людей, где и он. Они сблизились. Это было неизбежно. Но, помимо всякой любви со стороны Свифта к Ванессе, не должна ли была подобная жизнь отразиться на его отношениях к Стелле, которая оставалась чуждой его мечтаниям и политической деятельности, его удачам и неудачам в этой сфере? Отношения могли остаться в действительности те же – но чувство, прорывавшееся на первых страницах «Дневника», ушло куда-то вглубь, скрылось. Дорогой образ оказался оттесненным – тяжелыми заботами, настойчивыми стремлениями, неудачами, терзаниями; тон «Дневника» стал сдержанным, сухим. Когда в 1713 году Свифт возвратился на короткое время в Ирландию, он всецело находился под впечатлением испытанных им неудач: гордость его страдала, он переживал мучительные минуты. Его терзала мысль, что он брошен, точно негодный инструмент, и должен погибнуть в этой куче навоза и мусора. Кратковременное затем пребывание в Англии и последовавшее за ним окончательное возвращение в Ирландию только усугубили это настроение. Брак со Стеллой, который казался так возможен и близок в 1710 году, был теперь, в 1714-м, отодвинут на далекую дистанцию, – дальше, чем когда-либо прежде. Относительно наступивших затем годов мы не знаем даже, как часто виделись они; между ними не было регулярной переписки; нередко Свифт просил в письме к третьему лицу передать Стелле или узнать от нее что-либо.
Таково было взаимное положение трех интересующих нас теперь лиц, когда они в силу разных обстоятельств собрались в Ирландии и жили неподалеку друг от друга.
Ванесса поселилась в аббатстве Марлей, близ Сельбриджа; временами она приезжала в Дублин и жила здесь. Все ее помыслы были сосредоточены, конечно, на Свифте – теперь декане при церкви Св. Патрика. Но он, по-прежнему не придавая серьезного значения ее страсти, оставался холоден и недоступен. Она требует, чтобы он чаще навещал ее, требует его поддержки и советов. «Что может быть предосудительного, – спрашивает она, – в том, что Вы будете навещать несчастную молодую женщину и руководить ею?» Страстные взрывы ее любви он принимал за капризы и безрассудство, и они сердили его; но его гнев только раздражал ее чувство. «Обращайтесь со мной так, как Вы обращаетесь, – говорила она, – и Вы долго не перестанете нравиться мне…» «Взгляните же на меня добрее и говорите со мной сердечнее, – молит она – иначе (когда он недоволен) в Вашем взгляде есть что-то такое ужасное, что поражает меня, и я немею». И Свифт не мог устоять против такой мольбы, принимался ее утешать – хотя вовсе не с чувством любовника. Когда же она переменяла фронт и начинала грозить ему, он встречал ее угрозы насмешкой и шуткой…
Весь этот роман, в котором, с одной стороны, было, во всяком случае, искреннее, горячее чувство, а с другой – то, что можно назвать эгоистической добротой или доброй жестокостью, рассказан самим Свифтом в стихотворном произведении, озаглавленном: «Каденус[2] и Ванесса». Оно было написано в 1713-м и затем пересмотрено в 1719 году. Ввиду автобиографического значения этой поэмы передаю вкратце ее содержание. Действующие лица – Ванесса (Ваномри) и Каденус (Свифт). В Ванессе грация женщины соединяется с познаниями и образованностью мужчины. Великосветские франты думают угодить ей пустой болтовней о разных пустяшных вопросах, а она отвечает им выдержками из Плутарха. Леди из Сент-Джемского предместья были поражены, заметив на ее туалетном столике сочинение Монтеня; кроме того, она обнаруживала полное невежество по части мод, уборов и так далее. Все были скандализированы и смущены, что такая богато одаренная натура, такая очаровательная прелесть погибает совсем даром, благодаря своему полному незнанию света. Но вот Ванесса встречает Каденуса. В его взоре – усталость от чрезмерных занятий; его здоровье расстроено; он постарел в политических треволнениях и постоянном осмеянии людских пороков. Министры ухаживают за ним, а половина рода человеческого боится и ненавидит его. В этой суровой борьбе он позабыл уже, как некогда очаровывал леди, как шутил с ними и невинно забавлялся их увлечениями. Он не понимает, что такое любовь. Ванесса поражена с первой же встречи, она преклоняется перед ним. Но он относится к ней, как к дочери, наставляет и руководит ею в занятиях, он наслаждается только радостями учителя. Ванесса становится рассеянной. Каденус объясняет это тем, что он надоел ей своим педантизмом, и потому решается уехать. Встревоженная Ванесса объясняется ему в любви. Она говорит, что он научил ее быть выше ходячих предрассудков и не бояться высказывать откровенно то, что чувствуешь; и вот она чистосердечно заявляет ему, что уроки его вместо головы попали прямо в сердце… Каденус крайне смущен; речь ученицы захватила его врасплох. Он учитель, наставник – больше ничего и ни о чем другом никогда и не мечтал… А между тем могут подумать, что он имел хитрый умысел овладеть ее сердцем и ее пятью тысячами фунтов. Поэтому он пытается сначала обратить все в шутку. Но истинное чувство Ванессы слишком красноречиво дает о себе знать. Он учил ее, говорит она, любить великих людей в их творениях и через их книги; почему же она не может полюбить великого человека в его живой реальности? Каденус польщен, обезоружен и наполовину побежден. Он никогда раньше не слыхал от нее таких прекрасных речей, он готов допустить, что она имеет проницательный ум и высказывает совершенно правильные суждения. Однако остается непреклонным: лета и сан делают смешной всякую мысль о любви с его стороны; взамен последней он предлагает самую теплую дружбу. На это Ванесса отвечает, что теперь они должны поменяться ролями, теперь она будет учителем, а он учеником, теперь она будет обучать его тому, в чем он обнаруживает такую непростительную непонятливость. Успела ли, однако, Ванесса научить уму-разуму своего ученика – это остается тайной до сих пор. Так заканчивалась поэма в 1719 году. Но действительный ее конец был не таков. Его написала сама жизнь, и конец вышел, как и следовало ожидать, мучительный, полный глубокого трагизма.
Чем ближе дело подвигалось к развязке, тем тягостнее становилось положение всех этих трех лиц. Спокойная, но неизменно преданная в своей любви Стелла, с детства связавшая свою судьбу со Свифтом и покорно выносившая в течение целого ряда лет свою тяжелую судьбу; пылкая и горячая Ванесса, охваченная, точно пламенем, своею страстью, совершенно бессильная потушить её, – и между ними этот удивительный декан, терзающий и ту, и другую и еще более того терзаемый своими внутренними мучениями и физическими страданиями, переставший, несомненно, уже давно думать о брачной жизни и восторгах любви, потерпевший крушение в своих самолюбивых мечтаниях о политической деятельности и страшившийся мысли, что ему придется умереть здесь, в Ирландии, как отравленной крысе в подполье… Если он заставлял страдать Стеллу и Ванессу, то его роковая судьба, его saeva indignatio заставляла его самого страдать во сто крат больше! Но как ни были велики его личные страдания, он должен был в конце концов разрубить этот гордиев узел, запутывавшийся в течение стольких лет.
Оставим пока Ванессу в ее прелестном уединении в аббатстве Марлей, вечно скучающую, жаждущую видеть Свифта и оживавшую лишь в такие радостные, но редкие минуты. Что переживала в это время Стелла? Она знала, конечно, о знакомстве Свифта с Ванессой, об их дружбе, быть может, знала и о чувствах, какие Ванесса питала к декану. Ее отношения к последнему оставались прежние, равно как и он считал ее самым близким себе человеком, – но они продолжали жить врозь, видеться всегда в присутствии третьего лица и так далее. Между тем ей уже было около 35 лет, а ему – под 50. Стелла долго и покорно ждала, – но теперь она ясно видела, что настало время сделать последний шаг – или он никогда не будет сделан. В то же время беспокойство ее росло: она не могла не чувствовать некоторого охлаждения со стороны Свифта после возвращения его из Лондона. Правда, он был удручен и подавлен неудачами и постигшими его разочарованиями – но он не искал облегчения своих страданий в ее любви, в ее поддержке. Переселение Ванессы в Ирландию невольно вызывало всякого рода неприятные предположения. Надежда всей жизни готова была рушиться. Несчастная женщина страдала на виду у всех. Здоровье ее начало расстраиваться. Неужели Свифт так зачерствел в своем эгоизме, что не обращал никакого внимания на тяжелую драму, разыгрывавшуюся на его глазах? Нет, он все это видел и глубоко страдал; но избавить Стеллу от ее терзаний, внести в ее жизнь ту радость, о которой мечтала она, он не мог, – и не потому, что любил другую, нет, – просто не мог. Если хотите, считайте это «не мог» тайной, унесенной им в могилу, – но факт остается фактом. Встревоженный, однако, упадком сил и здоровья Стеллы, он обратился к своему другу, бывшему наставнику, а теперь Клоэрскому епископу, с просьбой узнать от Стеллы причину ее горя и чем он мог бы облегчить его. Сам он уклонился от разговора, опасаясь, вероятно, неприятностей, какие могли возникнуть при этом ввиду отношений его к Ванессе. Стелла отвечала: она долго и терпеливо ждала, утешая себя надеждой стать со временем его женой, но вместо этого встречает теперь с его стороны холодность и пренебрежение, что может подать повод для всякого рода пересудов; ее доброму имени угрожает бесчестие, и избежать этого можно только одним путем. Речь шла о браке. Свифт согласился обвенчаться, но с непременным условием, чтобы, во-первых, брак остался в величайшем секрете, и, во-вторых, они продолжали жить по-прежнему врозь и видеться в присутствии посторонних лиц. На таких условиях состоялся их брак в 1716 году, и тайна его была сохранена до конца жизни обоих.
Что Стелла настаивала на браке – это понятно, но какие мотивы руководили Свифтом, упорно отказывавшимся предать огласке совершившееся? Ответить нелегко, так как этот таинственный брак есть лишь завершение того, что всеми биографами признается тайной. Несомненно, однако, одно: Свифт в то время меньше всего думал о семейной жизни и меньше всего чувствовал склонность к ней. Большинство людей поступило бы иначе: в пору тяжелой невзгоды они стали бы искать утехи именно в радостях семейной жизни. Но Свифт ведь совершенно не похож на большинство. Не говоря уже о его опасениях оставить потомство со скверной наследственностью, – опасениях совершенно разумных, о его 50-летнем возрасте, мы не должны упускать из виду, что ни его положение декана, ни материальные средства, которыми он располагал, далеко не соответствовали тому, чего он добивался. Жизнь свою в Ирландии он считал изгнанием; в нем все еще жила надежда выступить снова на широкую арену политической деятельности; а вместо материального достатка ему приходилось в это время выплачивать долги, сделанные в Англии. Следовательно, условия, при которых он считал возможной семейную жизнь, отсутствовали, как и раньше. Поэтому-то, несмотря на формальный брак, все осталось по-прежнему, и сам факт брака был скрыт. Стелла успокоилась, поправилась, отношения между ею и Свифтом восстановились самые дружественные и сердечные, и жизнь снова вошла в прежнюю колею.