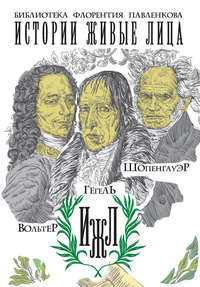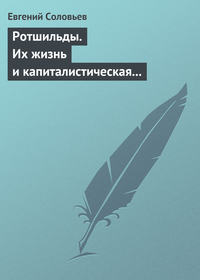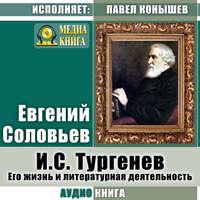полная версия
полная версияГенри Томас Бокль. Его жизнь и научная деятельность

Е. А. Соловьев
Генри Томас Бокль. Его жизнь и научная деятельность
Биографический очерк Е. А. Соловьева
С портретом Г. Т. Бокля, гравированным в Лейпциге Геданом

Вместо предисловия
Бокль жил в эпоху, богатую могучими дарованиями. В те годы, когда создавалась «История цивилизации в Англии», в области естествознания работали Дарвин, Лайель, Гексли; в области философии – Милль, Бэн, Спенсер; истории – Маколей, Карлейль. Он был современником Конта и Гельмгольца, и все же, как ни велики люди, окружавшие его, его имя смело можно поставить рядом с их именами, его труд найдет себе место возле «Положительной философии», «Основных начал», «Логики». И виновато в этом не только достоинство «Истории цивилизации», но и сам дух, которым проникнуто сочинение.
Лишь на первый взгляд «Геология» Лайеля, «Происхождение видов» Дарвина и книга Бокля не имеют между собой ничего общего. Здесь рассказывается об образовании земной коры, там – о переходе одной разновидности животного мира в другую, Бокль стремится формулировать законы истории. Но различие предметов так же скоро бросается в глаза, как и единство духа, настроения, мысли, создавших и новую эру в изучении природы, и новую эру в изучении человека и его истории.
Из всех европейских стран, не исключая России, Англия наиболее энергично пережила тот период, который может быть назван периодом торжествующего естествознания. Не особенно продолжительный (20–25 лет), он оказался, однако, наиболее плодотворным в умственной жизни XIX столетия. Естествознание, его приемы, методы, его воззрения на природу и человека вторглись во все области знания, пересоздали философию и психологию, учения о нравственности и об общественном строе. Бокль, Милль, Спенсер смело могут быть названы «естествоиспытателями» человека и его духовной жизни.
Разумеется, эпоха торжествующего естествознания наступила не сразу. Она подготавливалась, и притом очень долго, разрозненными усилиями десятков и сотен людей. Бэкон и Декарт, Лаплас и Лавуазье, Кювье и Биша – ее духовные отцы, деды и прадеды. Изучая природу, они постепенно приучали человека к мысли, что в окружающем его мироздании нет ничего случайного, произвольного, что все совершается по известным непреложным законам – безразлично, возьмем ли мы движение планет, или развитие органов какого-нибудь животного, или соединение химических элементов. Но после их трудов оставалась еще крупная и сложная задача – одухотворить той же самой идеей изучение человека и его историю, показать, что и здесь случай и произвол не играют никакой роли, и приступить к человечеству как к «естественному явлению».
Кажется, нет мысли, которая давалась бы с таким трудом людскому пониманию, как эта. Предрассудки веков и тысячелетий должны были восстать против нее во всеоружии своих седин. Возмущалась гордость человека, возмущалась его слабость, от которой, по-видимому, вместе с иллюзией собственного величия отнималось последнее и самое сильное утешение. Он привык считать себя центром мироздания и чем-то особенным, исключительным, перворазрядным. Видя вокруг себя постоянный процесс смерти и рождения, видя, как равнодушно относится природа к гибели живых существ вообще, как гибнут мириады цветов и насекомых после первого ночного мороза или как безжалостно ломает буря молодые побеги деревьев, он, пораженный ужасом и слушаясь своей гордости, заносил себя в совершенно особую категорию живых существ и, провозгласив свою волю свободной, уничтожил все нити, связывающие его жизнь с жизнью остальной природы.
«Для воды, которая не может не закипеть при 80° тепла, для свечи, которая не может не погаснуть в углекислоте, для дерева, которое не может не расти кверху, – есть свои законы. Для него, для человека, венца создания, нет законов. Он выше их, он вне их. У него – свободная воля, и эта свободная воля поступает по-своему, независимо от обстоятельств, мотивов, расчета, ничему не подчиняясь, не зная себе господина».
Эти мысли заключали в себе неистощимый источник бодрости и душевной энергии. Небольшая, но полная значения фраза «я хочу» стала для человека таинственным, сказочным талисманом, перед которым отворялись все запертые двери. Могущество времени, пространства, обстоятельств исчезали, и стены тюрьмы рушились перед свободной, независимой волей, не подчиненной ни времени, ни пространству, ни обстоятельствам. Ежедневный опыт, опыт действительности, не научал ничему, не изменял ничего. Он только скользил по поверхности человеческой мысли, в глубине которой таилась гордая уверенность в своем всемогуществе.
Расстаться с такими идеями, войти в цепь остальных живых существ, признать над собой полную и безусловную власть климата, пищи, рельефа поверхности, законов истории было слишком мучительным или казалось таким, на первый взгляд по крайней мере. Мысль о свободной воле давала не только утешение, она награждала человека сознанием собственной силы, без чего сама жизнь была бы слишком скучной, утомительной, ничтожной. И, несмотря на разрозненные, хотя и часто раздающиеся голоса деятелей науки, люди крепко, упорно держались идей, бывших для них источником живой воды. Пускай Коперник доказывает, что планеты движутся с определенной скоростью по известным орбитам, – то планеты; пусть Ньютон дает свой закон тяготения – то закон для тел, для материи; пусть Кювье говорит, что организм животного – точный отпечаток его пищи и обстановки, – то животное. Воля человека сама в себе носит источник деятельности, она определяется сама собой.
XVIII век, в лице Монтескье, Вольтера, энциклопедистов, стал подкапываться под мысли, питавшие человеческую гордость. Он действовал в этом направлении смело, дерзко, подчас грубо, но всегда односторонне. В глазах Кондильяка человек был не больше (!) чем одушевленная статуя; в глазах Монтескье общие причины истории значили ничуть не меньше, чем разум людей, и т. д. Историческая роль таких воззрений заключалась в том, что после них оказалось уже возможным приступить к изучению человека, его прошлого и настоящего, без всяких предвзятых мыслей, совершенно отбросив идею о его обособленности от остальной природы. Девятнадцатое столетие попыталось осуществить эту задачу, и в рассматриваемый нами период (шестидесятые годы) принципы естествознания совершенно подчинили себе изучение человека. Чтобы разъяснить, в чем тут суть, приведу известные слова Дарвина, сказанные по прочтении им трактатов Канта о нравственности: «Я прочел с большим удовольствием „Grundlegung“ Канта. Мне было интересно видеть, как различно думают два человека об одном и том же предмете. Хотя я хорошо знаю, насколько дерзко ставить меня рядом с Кантом, но мне хочется обратить внимание на то, что Кант, великий философ, наблюдал исключительно свой собственный дух, тогда как я – плохой философ – старался путем наблюдения обезьян и дикарей найти решение того же вопроса». Ирония, пронизывающая эти строки, очень характерна.
Чем было вызвано это невиданное до той поры торжество естественных наук, объяснить мы не беремся, к тому же такая задача завела бы нас слишком далеко. История умственного движения XIX века разработана так мало, что невозможно пока установить органическую связь между отдельными эпохами. Ограничимся пока тем, что укажем на факт несомненный и очевидный. Был на самом деле период, когда принципы естествознания под формой положительной философии Конта, синтетической философии Спенсера, доктрин Милля, исторических взглядов Бокля, учения Дарвина о нравственности, системы Фейербаха точно какое-нибудь поветрие распространялись из страны в страну.
Наша родина не избегла общеевропейской участи. Почти в то же время, как Бокль издавал свою «Историю цивилизации», Дарвин подготавливал к печати «Происхождение видов», Спенсер работал над последними главами «Основных начал» («First Principles»), наша журналистика была переполнена статьями о Молешотте и Бюхнере, а естествознанию воспевались красноречивые панегирики. Тогда писали: «Не знаю как другие, а я радуюсь этому увяданию нашей беллетристики и вижу здесь очень хорошие симптомы для будущей судьбы нашего умственного развития». Эта судьба «заключается в изучении природы и в изучении человека как последнего звена длинной цепи органических существ». Нам остается, следовательно, идти по дороге, проложенной европейцами, «ибо мыслящие европейцы собрали и привели в порядок необозримую груду фактов, относящихся ко всем отраслям естествознания; в настоящее время история и политическая экономия обращаются к изучению природы и постоянно очищаются от примеси тех фраз, гипотез и так называемых законов, которые не имеют для себя основания в видимых и осязаемых свойствах предметов. Умозрительная философия скончалась вместе с Гегелем, и приемы опытных наук проникли и продолжают проникать до сих пор во все отрасли человеческого мышления. Отрешаясь от школьных фантазий, наука в высшем и всеобъемлющем значении этого слова получает, наконец, в мире свое полное право гражданства; она формирует не специального исследователя, а человека; она закаляет ум, она приучает его действовать этим умом во всех обстоятельствах повседневной жизни; она помогает людям, подобным Лопухову, разрешать посредством строгого анализа все запутанные и щекотливые вопросы, которые прежде решались наудачу слепыми движениями чувства; она входит в кровь человека и перерабатывает его темперамент; она создает величайших поэтов – тех людей, у которых живая мысль проникнута насквозь горячей струей чувства, тех людей, которые способны дрожать и плакать от восторга и созерцания великой истины, тех людей, которые дышат одной жизнью с природой и человечеством».
Нечего и говорить, что этот дифирамб науке вырвался из-под пера Д. И. Писарева, самого чуткого и талантливого выразителя настроения своей эпохи. Какую же науку имеет он в виду? Вот его подлинные слова: «Скромное (то есть истинное) изучение началось настоящим образом с прошедшего столетия, с тех пор, как Лавуазье создал химический анализ; когда оно началось, метафизика смотрела на него покровительственным оком. А где теперь метафизика? И кто ее тихим манером отправил в архив? И где теперь та наука, которая не подольщалась к естествознанию и не отчаивалась бы в своем существовании, если естествознание не оказывает ей покровительства?» (Сочинения, т. III, с. 272–273).
Очевидно, что при таком настроении книга Бокля, где история не только прикоснулась к естествознанию, а прямо оперлась на него, пришлась как раз ко двору в ту, такую близкую и вместе с тем такую далекую эпоху. На самом деле, Уоллес свидетельствует: «…в России Бокль пользуется еще большей славой, чем у себя на родине. Многие считают его величайшим гением эпохи. Мне ни разу не приходилось иметь серьезного разговора с интеллигентными людьми, в котором не упоминалась бы книга Бокля и не делались бы ссылки на него как на безусловный авторитет».
Великая психологическая истина выступает перед нами: дух времени подчиняет и даже порабощает себе умы самого различного склада и самых различных стремлений. Вера в точную науку и во всемогущество отношений и обстоятельств, борьба с теорией свободной воли и признание законосообразности за нравственной и исторической деятельностью человека – вот идеи, которые одинаково проходят красной нитью и через статьи наших журналов 60-х годов, и «Историю цивилизации» Бокля.
Что же дал человечеству этот период торжествующего естествознания в области философии истории? Из дальнейшего повествования мы узнаем ответ на этот вопрос.
Глава I. Детство, отрочество и юность Бокля
Жизнь Бокля лишена всякого внешнего, показного драматизма. В ней нет ни неожиданных происшествий, ни борьбы с обстоятельствами, ни серьезных неудач. Вся она может быть вытянута в одну линию, и проследить ее от начала до конца нетрудно. Одна страсть, одна обстановка, одно настроение, одна книга – таково резюме жизни и деятельности великого английского мыслителя, чье имя было когда-то (лет 25–30 тому назад) таким родным и близким всякому русскому образованному человеку.
Генри Томас Бокль родился 22 ноября 1821 года в местечке Ли графства Кент. Его отец, Томас Генри Бокль, был довольно состоятельным торговцем лондонского Сити, хотя с английской точки зрения его состояние, не превышавшее полумиллиона рублей, представлялось, в сущности, очень скромным. Мать Бокля, мистрис Джен, вышла замуж в очень молодых летах и, кроме сына, будущего автора «Истории цивилизации», произвела на свет еще двух дочерей.
Единственный сын и вероятный преемник отцовского дела, маленький Бокль пользовался в доме завидной полной свободой. Всюду, начиная с чердака и кончая кухней, он был признанным господином и хозяином, и только на комнаты отца и матери не простиралась его власть: туда он не смел войти без спроса, а если и входил, то не имел права предаваться своему излюбленному занятию – переворачивать всё вверх дном. Несмотря на слабый и даже хрупкий организм, он отличался в детстве большой шаловливостью, но и в шаловливости проявлялась уже своеобразная наивная рассудочность его натуры. Обыкновенно, просидев два-три часа за рассматриванием картинок, а впоследствии за чтением своих излюбленных арабских сказок, маленький Бокль вставал с места, потягивался и говорил: «Теперь можно и пошалить». Немедленно начиналось вавилонское столпотворение. Мебель сдвигалась в кучу или переворачивалась ножками кверху, сестры в ужасе убегали к себе в спальню, а юный буян, нарядившись в какой-нибудь фантастический костюм из шали или скатерти, отправлялся на кухню и здесь, полный отваги, вступал в бой с дочерью кухарки или же, в случае особенно благодушного настроения, рассказывал ей только что прочитанную сказку, фигурируя в ней, разумеется, в роли героя. Когда его останавливали, он неизменно отвечал: «Я знаю, что это нехорошо, но маленькому мальчику все можно». Нашалившись, он шел к матери и, усевшись на скамеечке у ее ног, просил почитать ему из Священного Писания, – просьба, которая всегда исполнялась очень охотно, так как мать его была женщиной в высшей степени религиозной. Боклю не было еще и десяти лет, когда его отдали в школу, – одну из тех бесчисленных частных школ, которые до последнего времени почти исключительно ведали образованием английского юношества. Но подвергать своего сына всей строгости школьной ферулы[1] отец не хотел и поставил непременным условием, чтобы маленький Бокль учился только тому, чему сам пожелает, а главное – чтобы его никогда не секли и не били. Как ни исключительны были такие условия, – особенно последнее, так как в первой половине нынешнего столетия воспитание без розог представлялось английским педагогам чем-то вроде питания воздухом, – директор школы согласился, и Бокль стал ходить на уроки. Глубоко проникнутый убеждением, что «маленькому мальчику все можно», он шалил и дрался с товарищами и занимался только тогда, когда на него находило настроение. Однако это не мешало ему учиться лучше других. Уже в эти годы проявились его исключительная феноменальная память и быстрая сообразительность. Стоило ему два-три раза услышать латинские или французские стихи, как он уже знал их наизусть, о терминах же географии или истории нечего и говорить, он схватывал их на лету и не забывал уже никогда. Особенно заинтересовался он математикой – не тем, однако, ее отделом, который преподавали ему как маленькому, а курсом старшего класса – именно геометрией. Постоянно видя на доске чертежи и фигуры, он стал вглядываться в них, соображать и однажды просто поразил учителя, задав ему вопрос по поводу одной сложной геометрической теоремы. Когда убедились, что это не случайность, Боклю позволили заниматься математикой со старшими товарищами, что и было для него единственным удовольствием в дни школьной жизни.
В школе он оставался очень недолго. Она тяготила его, ежедневно отнимала целые часы, и он стал думать, как бы поскорее отделаться от нее совсем. Случай не заставил себя ждать. Однажды на публичном испытании Бокль получил первую награду по математике и явился домой в лавровом венке, которым награждались в те времена «преуспевающие». Увидя сына в наряде триумфатора, отец спросил его, чего он хочет, и обещал исполнить любую его просьбу. Бокль отвечал, что он хочет только одного: не ходить более в школу. Отец позволил, и мальчик запрыгал от радости.
В это время ему было всего тринадцать лет. Сведения, вынесенные им из школы, годились только для того, чтобы поражать ими прислугу, перед которой Бокль очень любил являться во всем блеске своей образованности. Для большего эффекта он, забравшись в кухню, становился обычно на стол и с пафосом читал наизусть отрывки из Вергилия или Овидия, немедленно переводя их, фразу за фразой, на французский язык. Но до систематических сведений мальчику не было решительно никакого дела. Он весь отдался тому занятию, которое впоследствии стало главным и первенствующим в его жизни, – именно чтению. «Тысяча и одна ночь», «Дон Кихот», «Робинзон Крузо», а скоро и Шекспир стали его излюбленными книгами, за которыми он просиживал дни и ночи. «Для юноши от пятнадцати до восемнадцати или двадцати лет, – говорил он впоследствии, – нельзя найти лучшего чтения, чем драмы Шекспира, и не те сокращенные обезображенные драмы, которые издаются ad usum scholarum (для школьного употребления), а такие, какими они вышли из-под пера великого поэта. Нечего бояться, что Шекспир труден для понимания юношества. Он слишком велик, чтобы быть трудным, слишком человек, чтобы быть непонятным».
Живя в полной независимости и свободе, Бокль чувствовал себя как нельзя лучше. Новая попытка, сделанная его отцом, подвести образование сына под систему не удалась. Отданный на попечение тьютора,[2] какого-то духовного лица, Бокль от непривычной обстановки серьезно захворал, и его пришлось взять обратно домой, где он, окруженный своими книгами и всем, что любил, поправился очень скоро. На всю последующую жизнь сохранил он, очевидно под влиянием личного своего опыта, убеждение, что «нельзя насиловать наклонностей и влечений ребенка и юноши», что «надо, по возможности, предоставлять их самим себе, а не коверкать по программе и не принуждать по системе». Всякий, говорил он, сам найдет себе дорогу; не беда, если он будет меньше образован, важно, чтобы он был самостоятелен, был самим собой. Годы спустя Бокль часто вступал в усиленный спор со своим другом, мистером Кэплем, из-за того, что тот заставляет слишком много работать своих учеников в то время, когда им надо бегать, играть, резвиться.
Вскоре, будучи шестнадцати– или семнадцатилетним юношей, Бокль пристрастился к чтению газет. Время тогда было горячее. В парламенте, на митингах, в прессе шли ожесточенные, страстные споры о свободной торговле и покровительственных пошлинах. Учредить ли первую, уничтожить ли последние? Классовые интересы, зависть мещан к аристократии, желание лордов сохранить свои привилегии делали из этих вопросов не только злобу дня, но и злобу целой исторической эпохи. На самом деле речь шла о политическом преобладании того или другого сословия. Для английских лордов, крупных землевладельцев по преимуществу, покровительственные пошлины были в высшей степени выгодны, так как позволяли им не допускать на рынок иностранный хлеб, а свой собственный продавать по произвольной, если можно так выразиться, «приятной» цене. Но громадные выгоды, получаемые ими от установления приятных цен, обусловливали и их несокрушимое политическое могущество – обстоятельство очень неприятное для мещанства, прекрасно понимавшего, что политическое могущество в высокой степени полезно и для торговых предприятий. Отсюда спор, отсюда борьба. Мещане, которые со времен Генриха VIII и Елизаветы подкапывались под аристократию, а однажды увлеклись даже до того, что (в 1649 году) упразднили палату лордов, как люди практичные, повели свою атаку на сундуки аристократии, пополнявшиеся, главным образом, благодаря покровительственным пошлинам. Милорды защищались, как умели, но проницательные люди с первого взгляда видели, что дело их проиграно, что их поражение можно только отсрочить, оттянуть, но, в сущности, оно неизбежно. Ведь мещане вступили в битву во всеоружии не только своих миллионов, нажитых торговыми предприятиями, но и науки – так называемой классической политической экономии Смита, Мальтуса, Милля-старшего, Рикардо, которая требовала свободы соревнования для всех и особенно восставала против классовых привилегий, вторгающихся в экономическую жизнь народа. «Долой привилегии! Долой монополии!» – этими словами Кобден закончил одну из самых блестящих своих речей в защиту свободной торговли. Энергия мещанства, вообще в то время очень значительная, подогревалась еще и следующим соображением: «Раз будут уничтожены покровительственные пошлины, понизится и цена на хлеб, а следовательно, и заработная плата, что поведет к отрадному увеличению барышей от фабрично-заводской промышленности». Читатель понимает, сколько пороху скрывается в этой мысли.
Под влиянием своего отца – убежденного тори – Бокль был на стороне аристократии и против свободной торговли. Для нас, впрочем, интересно не столько мнение семнадцатилетнего юноши, сколько тот живой интерес, который он проявлял к общественному вопросу, представлявшемуся его сверстникам очень сухой материей. Но Бокль увлекался до того, что не спал напролет целые ночи и часто с пылающей головой садился за стол и писал письма Пилю, отсылать которые, однако, не решался по робости. С этой поры газета наряду с книгой стала необходимостью в его жизни. Вообще же он посвящал чтению все свое время и был так доволен своей судьбой, что не искал и не хотел ничего лучшего.
Отцу, однако, не совсем нравилась жизнь сына, и он решил пристроить его к какому-нибудь делу, так как был уверен, что человек может быть бодр и счастлив, лишь имея какую-нибудь обязанность. Дело оказалось под рукой: конторские занятия, и Бокль-младший волей-неволей был принужден заняться дебетом и кредитом и подводить итоги в толстых гроссбухах. Мир цифр и счетов возбуждал его искреннее отвращение. Заинтересоваться делом он не сумел, не захотел и исполнял его чисто механически, хотя и аккуратно. «Бедный Генри так мучился все это время!» – вспоминала впоследствии его мать, но против воли отца идти не решалась.
Впрочем, справедливо замечено, что умный человек извлекает известную долю пользы даже из общения с глупыми людьми и из занятий неумным делом. Так в данном случае вышло и с Боклем. Как ни тяжело было ему ходить каждое утро в контору и просиживать там целые часы, щелкая на счетах в атмосфере, пропитанной табачным дымом и отрывочными деловыми разговорами на профессиональном жаргоне, он, по его собственным словам, «приучался постепенно к той безусловной точности и аккуратности», которые так необходимы как в большом, так и в маленьком деле. Та же контора сближала его с действительностью, самой грубой и узкой, показывая ему такие стороны жизни, какие он никогда бы не узнал, сидя в своей библиотеке. «Практичность и близкое знакомство с окружающим миром, – говорит он сам, – не менее полезны для гения, чем и для обыкновенного смертного». Он хвалил Милля за то, что тот никогда не предавался утопиям и иллюзиям, и трезвость его мысли приписывал отчасти долгим занятиям на службе в Ост-Индской компании. Разумеется, он не мог понять Огюста Конта, который «довел свою непредусмотрительность» до того, что на вершине европейской славы принужден был жить исключительно на подачки своих богатых английских почитателей, то и дело обращаясь к Миллю с просьбами о деньгах. Расчетливый и сдержанный от природы, Бокль укрепил в себе эти качества конторскими занятиями.
Тем не менее, он бросил «дело» при первой же возможности, чтобы отдаться, и уже навсегда, тому, что в глазах людей, плохо знавших его, было бездельем обеспеченного и независимого человека. В январе 1840 года умер его отец. Последними его словами, обращенными к сыну, были: «Люби свою мать». В этих словах умирающего старика выразилась вся его горячая привязанность к жене и искреннее забвение страданий долгой совместной жизни…
На самом деле в семье Бокля-старшего в течение многих лет разыгрывалась драма, о которой до нас донеслись лишь смутные, неполные сведения. Эта драма – чисто английская, и едва ли можно найти много подобных ей примеров из жизни континента. Отец Бокля был самым искренним и убежденным приверженцем англиканской государственной церкви, «верховноцерковником», мать – не менее искренней и убежденной кальвинисткой. Веселая и добродушная, она, однако, держалась самой мрачной религии из существующих на земле. Несмотря на счастливую обстановку, любовь к детям, привязанность мужа, она то и дело ощущала в душе тот таинственный трепет и ужас, которые суровый Кальвин умел вселить на целые века в суеверные души своих последователей. Фанатик, радостно и самоуверенно фигурировавший в роли палача одного из благороднейших представителей свободной человеческой мысли, Кальвин не мог себе представить и самое божество иначе, как в виде грозного карающего судьи и безжалостного инквизитора. Он мыслил его постоянно гневным, наслаждающимся самоуничтожением творений своих существом, для которого их жертвы и аскетизм составляют усладу… Глубоко привитый воспитанием, кальвинизм терзал робкую душу матери Бокля, и мысль о преступности ее счастья, о греховности земных привязанностей не давала ей покоя. Муж в ее глазах, несмотря на все уважение, которое она питала к нему, был все же еретиком – одним из тех, кому Кальвин предсказал вечную гибель, вечные жестокие муки в загробной жизни. И тоскующая, испуганная до физического трепета своими мыслями, мать Бокля уходила в себя, искала одиночества. Но напрасно молилась она о мире души своей – он пришел лишь с годами и слишком поздно, чтобы успокоить и осчастливить старика Бокля. Тот, видя, как бесполезны его привязанность, его усилия объединить духовную жизнь семьи, тосковал, доходя до мрачной сосредоточенности. Он дошел до того, что, гуляя по улицам, не узнавал своих знакомых и оставил все дела свои на произвол судьбы. Незадолго до смерти он сломал себе руку. Почему-то это сильно поразило его, и он не верил в свое выздоровление. «Я умру», – твердил он постоянно. Предчувствие оправдалось.