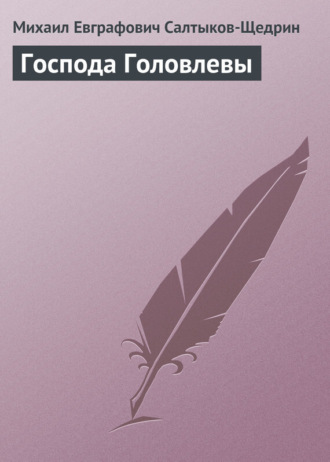
Полная версия
Господа Головлевы
Было около десяти часов утра, когда из-за леса показалась белая головлевская колокольня.
Лицо Степана Владимирыча побледнело, руки затряслись: он снял картуз и перекрестился. Вспомнилась ему евангельская притча о блудном сыне, возвращающемся домой, но он тотчас же понял, что, в применении к нему, подобные воспоминания составляют только одно обольщение. Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги межевой столб и очутился на головлевской земле, на той постылой земле, которая родила его постылым, вскормила постылым, выпустила постылым на все четыре стороны и теперь, постылого же, вновь принимает его в свое лоно. Солнце стояло уже высоко и беспощадно палило бесконечные головлевские поля. Но он бледнел все больше и больше и чувствовал, что его начинает знобить.
Наконец он дошел до погоста, и тут бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрела из-за деревьев так мирно, словно в ней не происходило ничего особенного; но на него ее вид произвел действие медузиной головы. Там чудился ему гроб. Гроб! гроб! гроб! – повторял он бессознательно про себя. И не решился-таки идти прямо в усадьбу, а зашел прежде к священнику и послал его известить о своем приходе и узнать, примет ли его маменька.
Попадья при виде его закручинилась и захлопотала об яичнице; деревенские мальчишки столпились вокруг него и смотрели на барина изумленными глазами; мужики, проходя мимо, молча снимали шапки и как-то загадочно взглядывали на него; какой-то старик дворовый даже подбежал и попросил у барина ручку поцеловать. Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место, пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост. И всем делалось в одно и то же время и жалко и жутко.
Наконец поп пришел и сказал, что «маменька готовы принять» Степана Владимирыча. Через десять минут он был уже там. Арина Петровна встретила его торжественно-строго и смерила с ног до головы ледяным взглядом; но никаких бесполезных упреков не позволила себе. И в комнаты не допустила, а так на девичьем крыльце свиделась и рассталась, приказав проводить молодого барина через другое крыльцо к папеньке. Старик дремал в постели, покрытой белым одеялом, в белом колпаке, весь белый, словно мертвец. Увидевши его, он проснулся и идиотски захохотал.
– Что, голубчик! попался к ведьме в лапы! – крикнул он, покуда Степан Владимирыч целовал его руку. Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил: – Съест! съест! съест!
– Съест! – словно эхо, откликнулось и в его душе.
Предвидения его оправдались. Его поместили в особой комнате того флигеля, в котором помещалась и контора. Туда принесли ему белье из домашнего холста и старый папенькин халат, в который он и облачился немедленно. Двери склепа растворились, пропустили его и – захлопнулись.
Потянулся ряд вялых, безубразных дней, один за другим утопающих в серой, зияющей бездне времени. Арина Петровна не принимала его; к отцу его тоже не допускали. Дня через три бурмистр Финогей Ипатыч объявил ему от маменьки «положение», заключавшееся в том, что он будет получать стол и одежду и, сверх того, по фунту Фалера[2] в месяц. Он выслушал маменькину волю и только заметил:
– Ишь ведь, старая! Пронюхала, что Жуков два рубля, а Фалер рубль девяносто стоит – и тут десять копеечек ассигнациями в месяц утянула! Верно, нищему на мой счет подать собиралась!
Признаки нравственного отрезвления, появившиеся было в те часы, покуда он приближался проселком к Головлеву, вновь куда-то исчезли. Легкомыслие опять вступило в свои права, а вместе с тем последовало и примирение с «маменькиным положением». Будущее, безнадежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетом, с каждым днем все больше и больше заволакивалось туманом и, наконец, совсем перестало существовать. На сцену выступил насущный день, с его цинической наготою, и выступил так назойливо и нагло, что всецело заполнил все помыслы, все существо. Да и какую роль может играть мысль о будущем, когда течение всей жизни бесповоротно и в самых малейших подробностях уже решено в уме Арины Петровны?
Целыми днями шагал он взад и вперед по отведенной комнате, не выпуская трубки изо рта и напевая кой-какие обрывки песен, причем церковные напевы неожиданно сменялись разухабистыми, и наоборот. Когда в конторе находился налицо земский, то он заходил к нему и высчитывал доходы, получаемые Ариной Петровной.
– И куда она экую прорву деньжищ девает! – удивлялся он, досчитываясь до цифры с лишком в восемьдесят тысяч на ассигнации, – братьям, я знаю, не ахти сколько посылает, сама живет скаредно, отца солеными полотками кормит… В ломбард! больше некуда, как в ломбард кладет.
Иногда в контору приходил и сам Финогей Ипатыч с оброками, и тогда на конторском столе раскладывались по пачкам те самые деньги, на которые так разгорались глаза у Степана Владимирыча.
– Ишь пропасть какая деньжищ! – восклицал он, – и все-то к ней в хайло уйдут! нет того, чтоб сыну пачечку уделить! на, мол, сын мой, в горести находящийся! вот тебе на вино и на табак!
И затем начинались бесконечные и исполненные цинизма разговоры с Яковом-земским о том, какими бы средствами сердце матери так смягчить, чтоб она души в нем не чаяла.
– В Москве у меня мещанин знакомый был, – рассказывал Головлев, – так он «слово» знал… Бывало, как не захочет ему мать денег дать, он это «слово» и скажет… И сейчас это всю ее корчить начнет, руки, ноги – словом, всё!
– Порчу, стало быть, какую ни на есть пущал! – догадывался Яков-земский.
– Ну, уж там как хочешь разумей, а только истинная это правда, что такое «слово» есть. А то еще один человек сказывал: возьми, говорит, живую лягушку и положи ее в глухую полночь в муравейник; к утру муравьи ее всю объедят, останется одна косточка; вот эту косточку ты возьми, и покуда она у тебя в кармане – что хочешь у любой бабы проси, ни в чем тебе отказу не будет.
– Что ж, это хоть сейчас сделать можно!
– То-то, брат, что сперва проклятие на себя наложить нужно! Кабы не это… то-то бы ведьма мелким бесом передо мной заплясала.
Целые часы проводились в подобных разговорах, но средств все-таки не обреталось. Всё – либо проклятие на себя наложить приходилось, либо душу черту продать. В результате ничего другого не оставалось как жить на «маменькином положении», поправляя его некоторыми произвольными поборами с сельских начальников, которых Степан Владимирыч поголовно обложил данью в свою пользу в виде табаку, чаю и сахару. Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно приносили остатки маменькинова обеда, а так как Арина Петровна была умеренна до скупости, то естественно, что на его долю оставалось немного. Это было в особенности для него мучительно, потому что с тех пор, как вино сделалось для него запретным плодом, аппетит его быстро усилился. С утра до вечера он голодал и только об том и думал, как бы наесться. Подкарауливал часы, когда маменька отдыхала, бегал в кухню, заглядывал даже в людскую и везде что-нибудь нашаривал. По временам садился у открытого окна и поджидал, не проедет ли кто. Ежели проезжал мужик из своих, то останавливал его и облагал данью: яйцом, ватрушкой и т. д.
Еще при первом свидании Арина Петровна в коротких словах выяснила ему полную программу его житья-бытья.
– Покуда – живи! – сказала она, – вот тебе угол в конторе, пить-есть будешь с моего стола, а на прочее – не погневайся, голубчик! Разносолов у меня от роду не бывало, а для тебя и подавно заводить не стану. Вот братья ужо приедут: какое положение они промежду себя для тебя присоветуют – так я с тобой и поступлю. Сама на душу греха брать не хочу, как братья решат – так тому и быть!
И вот теперь он с нетерпением ждал приезда братьев. Но при этом он совсем не думал о том, какое влияние будет иметь этот приезд на дальнейшую его судьбу (по-видимому, он решил, что об этом и думать нечего), а загадывал только, привезет ли ему брат Павел табаку и сколько именно.
«А может, и денег отвалит! – прибавлял он мысленно. – Порфишка-кровопивец – тот не даст, а Павел… Скажу ему: дай, брат, служивому на вино… даст! как, чай, не дать!»
Время проходило, и он не замечал его. Это была абсолютная праздность, которою он, однако, почти не тяготился. Только по вечерам было скучно, потому что земский уходил часов в восемь домой, а для него Арина Петровна не отпускала свечей, на том основании, что по комнате взад и вперед шагать и без свечей можно. Но он и к этому скоро привык и даже полюбил темноту, потому что в темноте сильнее разыгрывалось воображение и уносило его далеко из постылого Головлева. Одно его тревожило: сердце у него неспокойно было и как-то странно трепыхалось в груди, в особенности когда он ложился спать. Иногда он вскакивал с постели, словно ошеломленный, и бегал по комнате, держась рукой за левую сторону груди.
«Эх, кабы околеть! – думалось ему при этом, – нет, ведь, не околею! А может быть…»
Но когда однажды утром земский таинственно доложил ему, что ночью братцы приехали, – он невольно вздрогнул и изменился в лице. Что-то ребяческое вдруг в нем проснулось; хотелось бежать поскорее в дом, взглянуть, как они одеты, какие постланы им постели и есть ли у них такие же дорожные несессеры, как он видел у одного ополченского капитана; хотелось послушать, как они будут говорить с маменькой, подсмотреть, что будут им подавать за обедом. Словом сказать, хотелось и еще раз приобщиться к той жизни, которая так упорно отметала его от себя, броситься к матери в ноги, вымолить ее прощение и потом, на радостях, пожалуй, съесть и упитанного тельца. Еще в доме было все тихо, а он уже сбегал к повару на кухню и узнал, что к обеду заказано: на горячее щи из свежей капусты, небольшой горшок, да вчерашний суп разогреть велено, на холодное – полоток соленый да сбоку две пары котлеточек, на жаркое – баранину да сбоку четыре бекасика, на пирожное – малиновый пирог со сливками.
– Вчерашний суп, полоток и баранина – это, брат, постылому! – сказал он повару, – пирога, я полагаю, мне тоже не дадут!
– Это как будет угодно маменьке, сударь.
– Эхма! А было время, что и я дупелей едал! едал, братец! Однажды с поручиком Гремыкиным даже на пари побился, что сряду пятнадцать дупелей съем, – и выиграл! Только после этого целый месяц смотреть без отвращения на них не мог!
– А теперь и опять бы покушали?
– Не даст! А чего бы, кажется, жалеть! Дупель – птица вольная: ни кормить ее, ни смотреть за ней – сама на свой счет живет! И дупель некупленный, и баран некупленный – а вот поди ж ты! знает, ведьма, что дупель вкуснее баранины, – ну и не даст! Сгноит, а не даст! А на завтрак что заказано?
– Печенка заказана, грибы в сметане, сучни…
– Ты бы хоть соченька мне прислал… постарайся, брат!
– Надо постараться. А вы вот что, сударь. Ужо, как завтракать братцы сядут, пришлите сюда земского: он вам парочку соченьков за пазухой пронесет.
Все утро прождал Степан Владимирыч, не придут ли братцы, но братцы не шли. Наконец, часов около одиннадцати, принес земский два обещанных сочня и доложил, что братцы сейчас отзавтракали и заперлись с маменькой в спальной.
Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем. Две девки поддерживали ее под руки; седые волосы прядями выбились из-под белого чепца, голова понурилась и покачивалась из стороны в сторону, ноги едва волочились. Вообще она любила в глазах детей разыграть роль почтенной и удрученной матери и в этих случаях с трудом волочила ноги и требовала, чтобы ее поддерживали под руки девки. Степка-балбес называл такие торжественные приемы архиерейским служением, мать – архиерейшею, а девок Польку и Юльку – архиерейшиными жезлоносицами. Но так как был уже второй час ночи, то свидание произошло без слов. Молча подала она детям руку для целования, молча перецеловала и перекрестила их, и когда Порфирий Владимирыч изъявил готовность хоть весь остаток ночи прокалякать с милым другом маменькой, то махнула рукой, сказав:
– Ступайте! отдохните с дороги! не до разговоров теперь, завтра поговорим.
На другой день, утром, оба сына отправились к папеньке ручку поцеловать, но папенька ручки не дал. Он лежал на постели с закрытыми глазами и, когда вошли дети, крикнул:
– Мытаря судить приехали?… вон, фарисеи… вон!
Тем не менее Порфирий Владимирыч вышел из папенькинова кабинета взволнованный и заплаканный, а Павел Владимирыч, как «истинно бесчувственный идол», только ковырял пальцем в носу.
– Не хорош он у вас, добрый друг маменька! ах, как не хорош! – воскликнул Порфирий Владимирыч, бросаясь на грудь к матери.
– Разве очень сегодня слаб?
– Уж так слаб! так слаб! Не жилец он у вас!
– Ну, поскрипит еще!
– Нет, голубушка, нет! И хотя ваша жизнь никогда не была особенно радостна, но как подумаешь, что столько ударов зараз… право, даже удивляешься, как это вы силу имеете переносить эти испытания!
– Что ж, мой друг, и перенесешь, коли Господу Богу угодно! знаешь, в Писании-то что сказано: тяготы друг другу носите – вот и выбрал меня он, батюшко, чтоб семейству своему тяготы носить!
Арина Петровна даже глаза зажмурила: так это хорошо ей показалось, что все живут на всем на готовеньком, у всех-то все припасено, а она одна – целый-то день мается да всем тяготы носит.
– Да, мой друг! – сказала она после минутного молчания, – тяжеленько-таки мне на старости лет! Припасла я детям на свой пай – пора бы и отдохнуть! Шутка сказать – четыре тысячи душ! этакой-то махиной управлять в мои лета! за всяким ведь погляди! всякого уследи! да походи, да побегай! Хоть бы эти бурмистры да управители наши: ты не гляди, что он тебе в глаза смотрит! одним-то глазом он на тебя, а другим – в лес норовит! Самый это народ… маловерный! Ну а ты что? – прервала она вдруг, обращаясь к Павлу, – в носу ковыряешь?
– Мне что ж! – огрызнулся Павел Владимирыч, обеспокоенный в самом разгаре своего занятия.
– Как что! все же отец тебе – можно бы и пожалеть!
– Что ж – отец! Отец как отец… как всегда! Десять лет он такой! Всегда вы меня притесняете!
– Зачем мне тебя притеснять, друг мой, я мать тебе! Вот Порфиша: и приласкался и пожалел – все как след доброму сыну сделал, а ты и на мать-то путем посмотреть не хочешь, все исподлобья да сбоку, словно она – не мать, а ворог тебе! Не укуси, сделай милость!
– Да что же я…
– Постой! помолчи минутку! дай матери слово сказать! Помнишь ли, что в заповеди-то сказано: чти отца твоего и матерь твою – и благо ти будет… стало быть, ты «блага»-то себе не хочешь?
Павел Владимирыч молчал и смотрел на мать недоумевающими глазами.
– Вот видишь, ты и молчишь, – продолжала Арина Петровна, – стало быть, сам чувствуешь, что блохи за тобой есть. Ну, да уж Бог с тобой! Для радостного свидания, оставим этот разговор. Бог, мой друг, все видит, а я… ах, как давно я тебя насквозь понимаю! Ах, детушки, детушки! вспомните мать, как в могилке лежать будет, вспомните – да поздно уж будет!
– Маменька! – вступился Порфирий Владимирыч, – оставьте эти черные мысли! оставьте!
– Умирать, мой друг, всем придется! – сентенциозно произнесла Арина Петровна, – не черные это мысли, а самые, можно сказать… божественные! Хирею я, детушки, ах, как хирею! Ничего-то во мне прежнего не осталось – слабость да хворость одна! Даже девки-поганки заметили это – и в ус мне не дуют! Я слово – они два! я слово – они десять! Одну только угрозу и имею на них, что молодым господам, дескать, пожалуюсь! Ну, иногда и попритихнут!
Подали чай, потом завтрак, в продолжение которых Арина Петровна все жаловалась и умилялась сама над собой. После завтрака она пригласила сыновей в свою спальную.
Когда дверь была заперта на ключ, Арина Петровна немедленно приступила к делу, по поводу которого был созван семейный совет.
– Балбес-то ведь явился! – начала она.
– Слышали, маменька, слышали! – отозвался Порфирий Владимирыч не то с иронией, не то с благодушием человека, который только что сытно покушал.
– Пришел, словно и дело сделал, словно так и следовало: сколько бы, мол, я ни кутил, ни мутил, у старухи матери всегда про меня кусок хлеба найдется! Сколько я в своей жизни ненависти от него видела! сколько от одних его буффонств да каверзов мучения вытерпела! Что я в ту пору трудов приняла, чтоб его на службу-то втереть! – и все как с гуся вода! Наконец билась-билась, думаю: Господи! да коли он сам об себе радеть не хочет – неужто я обязана из-за него, балбеса долговязого, жизнь свою убивать! Дай, думаю, выкину ему кусок, авось свой грош в руки попадет – постепеннее будет! И выкинула. Сама и дом-то для него высмотрела, сама собственными руками, как одну копейку, двенадцать тысячек серебром денег выложила! И что ж! не прошло после того и трех лет – ан он и опять у меня на шее повис! Долго ли мне надругательства-то эти переносить?
Порфиша вскинул глазами в потолок и грустно покачал головою, словно бы говорил: «а-а-ах! дела! дела! и нужно же милого друга маменьку так беспокоить! сидели бы все смирно, ладком да мирком – ничего бы этого не было, и маменька бы не гневалась… а-а-ах, дела, дела!» Но Арине Петровне, как женщине, не терпящей, чтобы течение ее мыслей было чем бы то ни было прерываемо, движение Порфиши не понравилось.
– Нет, ты погоди головой-то вертеть, – сказала она, – ты прежде выслушай! Каково мне было узнать, что он родительское-то благословение, словно обглоданную кость, в помойную яму выбросил? Каково мне было чувствовать, что я, с позволения сказать, ночей недосыпала, куска недоедала, а он – на-тко! Словно вот взял, купил на базаре бирюльку – не занадобилась, и выкинул ее за окно! Это родительское-то благословение!
– Ах, маменька! Это такой поступок! такой поступок! – начал было Порфирий Владимирыч, но Арина Петровна опять остановила его.
– Стой! погоди! когда я прикажу, тогда свое мнение скажешь! И хоть бы он меня, мерзавец, предупредил! Виноват, мол, маменька, так и так – не воздержался! Я ведь и сама, кабы вовремя, сумела бы за бесценок дом-то приобрести! Не сумел недостойный сын пользоваться, – пусть попользуются достойные дети! Ведь он, шутя-шутя, дом-то, пятнадцать процентов в год интересу принесет! Может быть, я бы ему за это еще тысячку рублей на бедность выкинула! А то – на-тко! сижу здесь, ни сном, ни делом не вижу, а он уж и распорядился! Двенадцать тысяч собственными руками за дом выложила, а он его с аукциона в восьми тысячах спустил!
– А главное, маменька, что он с родительским благословением так низко поступил! – поспешил скороговоркой прибавить Порфирий Владимирыч, словно опасаясь, чтоб маменька вновь не прервала его.
– И это, мой друг, да и то. У меня, голубчик, деньги-то не шальные; я не танцами да курантами приобретала их, а хребтом да потом. Я как богатства-то достигала? Как за папеньку-то я шла, у него только и было, что Головлево, сто одна душа, да в дальних местах, где двадцать, где тридцать – душ с полтораста набралось! А у меня, у самой-то – и всего ничего! И ну-тко, при таких-то средствах, какую махину выстроила! Четыре-то тысячи душ – их ведь не скроешь! И хотела бы в могилку с собой унести, да нельзя! Как ты думаешь, легко мне они, эти четыре тысячи душ, достались? Нет, друг мой любезный, так нелегко, так нелегко, что, бывало, ночью не спишь – все тебе мерещится, как бы так дельцо умненько обделать, чтоб до времени никто и пронюхать об нем не мог! Да чтобы кто-нибудь не перебил, да чтобы копеечки лишненькой не истратить! И чего я не попробовала! и слякоть-то, и распутицу-то, и гололедицу-то – всего отведала! Это уж в последнее время я в тарантасах роскошничать начала, а в первое-то время соберут, бывало, тележонку крестьянскую, кибитчонку кой-какую на нее навяжут, пару лошадочек запрягут – я и плетусь трюх-трюх до Москвы! Плетусь, а сама все думаю: а ну как кто-нибудь именье-то у меня перебьет! Да и в Москву приедешь, у Рогожской на постоялом остановишься, вони да грязи – все я, друзья мои, вытерпела! На извозчика, бывало, гривенника жаль, – на своих на двоих от Рогожской до Солянки пру! Даже дворники – и те дивятся: барыня, говорят, ты молоденькая и с достатком, а такие труды на себя принимаешь! А я все молчу да терплю. И денег-то у меня в первый раз всего тридцать тысяч на ассигнации было – папенькины кусочки дальние, душ со сто, продала, – да с этою-то суммой и пустилась я, шутка сказать, тысячу душ покупать! Отслужила у Иверской молебен, да и пошла на Солянку счастья попытать. И что ж ведь! Словно видела заступница мои слезы горькие – оставила-таки имение за мной! И чудо какое: как я тридцать тысяч, окроме казенного долга, надавала, так словно вот весь аукцион перерезала! Прежде и галдели и горячились, а тут и надбавлять перестали, и стало вдруг тихо-тихо кругом. Встал это присутствующий, поздравляет меня, а я ничего не понимаю! Стряпчий тут был, Иван Николаич, подошел ко мне: с покупочкой, говорит, сударыня, а я словно вот столб деревянный стою! И как ведь милость-то Божия велика! Подумайте только: если б, при таком моем исступлении, вдруг кто-нибудь на озорство крикнул: тридцать пять тысяч даю! – ведь я, пожалуй, в беспамятстве-то и все сорок надавала бы! А где бы я их взяла?!
Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения, но, по-видимому, она и доднесь не утратила в их глазах интереса новизны. Порфирий Владимирыч слушал маменьку, то улыбаясь, то вздыхая, то закатывая глаза, то опуская их, смотря по свойству перипетий, через которые она проходила. А Павел Владимирыч даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку.
– А вы, чай, думаете, даром состояние-то матери досталось! – продолжала Арина Петровна, – нет, друзья мои! даром-то и прыщ на носу не вскочит: я после первой-то покупки в горячке шесть недель вылежала! Вот теперь и судите: каково мне видеть, что после таких-то, можно сказать, истязаний трудовые мои денежки, ни дай ни вынеси за что, в помойную яму выброшены!
Последовало минутное молчание. Порфирий Владимирыч готов был ризы на себе разодрать, но опасался, что в деревне, пожалуй, некому починить их будет; Павел Владимирыч, как только кончилась «сказка» о благоприобретении, сейчас же опустился, и лицо его приняло прежнее апатичное выражение.
– Так вот я затем вас и призвала, – вновь начала Арина Петровна, – судите вы меня с ним, со злодеем! Как вы скажете, так и будет! Его осэдите – он будет виноват, меня осэдите – я виновата буду. Только уж я себя злодею в обиду не дам! – прибавила она совсем неожиданно.
Порфирий Владимирыч почувствовал, что праздник на его улице наступил, и разошелся соловьем. Но, как истинный кровопивец, он не приступил к делу прямо, а начал с околичностей.
– Если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить мое мнение, – сказал он, – то вот оно в двух словах: дети обязаны повиноваться родителям, слепо следовать указаниям их, покоить их в старости – вот и все. Что такое дети, милая маменька? Дети – это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они на себе имеют, – все принадлежит родителям. Поэтому родители могут судить детей; дети же родителей – никогда. Обязанность детей – чтить, а не судить. Вы говорите: судите меня с ним! Это великодушно, милая маменька, велли-ко-лепно! Но можем ли мы без страха даже подумать об этом, мы, от первого дня рождения облагодетельствованные вами с головы до ног? Воля ваша, но это будет святотатство, а не суд! Это будет такое святотатство, такое святотатство…
– Стой! погоди! коли ты говоришь, что не можешь меня судить, так оправь меня, а его осуди! – прервала его Арина Петровна, которая вслушивалась и никак не могла разгадать: какой такой подвох у Порфишки-кровопивца в голове засел.
– Нет, голубушка маменька, и этого не могу! Или, лучше сказать, не смею и не имею права. Ни оправлять, ни обвинять – вообще судить не могу. Вы – мать, вам одним известно, как с нами, вашими детьми, поступать. Заслужили мы – вы наградите нас, провинились – накажите. Наше дело – повиноваться, а не критиковать. Если б вам пришлось даже и переступить, в минуту родительского гнева, меру справедливости – и тут мы не смеем роптать, потому что пути провидения скрыты от нас. Кто знает? Может быть, это и нужно так! Так-то и здесь: брат Степан поступил низко, даже, можно сказать, черну, но определить степень возмездия, которое он заслуживает за свой поступок, можете вы одни!
– Стало быть, ты отказываешься? Выпутывайтесь, мол, милая маменька, как сами знаете!
– Ах, маменька, маменька! и не грех это вам! Ах-ах-ах! Я говорю: как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет – а вы… ах, какие вы черные мысли во мне предполагаете!
– Хорошо. Ну а ты как? – обратилась Арина Петровна к Павлу Владимирычу.
– Мне что ж! Разве вы меня послушаетесь? – заговорил Павел Владимирыч словно сквозь сон, но потом неожиданно захрабрился и продолжал: – Известно, виноват… на куски рвать… в ступе истолочь… вперед известно… мне что ж!









