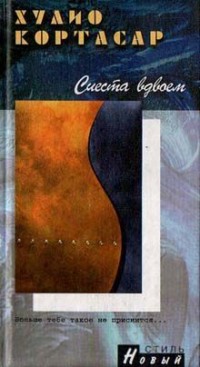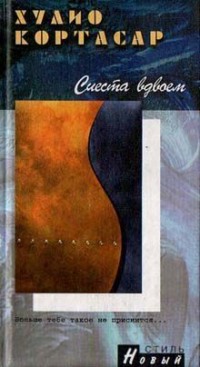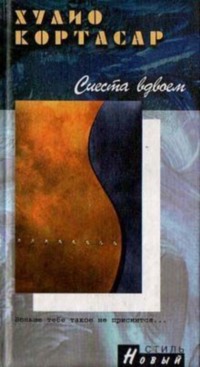Полная версия
Счастливчики
– В восемнадцать часов в этом кафе. Багаж заберут утром из дому. Убедительно просят никого с собой не приводить. Все остальное обеспечивает Управление экономического развития. Ничего себе лотерея. Но почему в этом кафе, скажи на милость?
– С некоторых пор я отказываюсь что бы то ни было понимать в этом деле, – сказала Паула, – за исключением того, что ты счастливо выиграл по лотерейному билету и пригласил меня с собой, лишив раз и навсегда возможности попасть в справочник «Кто есть кто в Аргентине».
– Наоборот – это загадочное плавание прибавит тебе весу. Можешь сказать, что удалилась от света ради духовного очищения или что пишешь монографию о Дилане Томасе[7], очередном модном в литературных кофейнях поэте. Я лично считаю, что главное очарование всякого безумства состоит в том, что оно всегда кончается плохо.
– Да, порою в этом есть свое очарование, – сказала Паула. –Le besoin de la fatalite[8], как говорится.
– В худшем случае получится обычное плавание, правда, неизвестно куда. На три-четыре месяца. Признаюсь, именно это, последнее, меня и склонило в его пользу. Куда же это они могут отправить нас так надолго? Разве что в Китай?
– В который из двух?
– В оба, отдавая должное традиционному нейтралитету Аргентины.
– Хорошо бы, но увидишь, привезут в Геную, а оттуда – на автобусах по всей Европе, пока не растрясут вконец.
– Сомневаюсь, – сказал Рауль. – В таком случае они бы до отплытия расписали это на все лады. А когда отплывем – там уже другой разговор.
– Но все-таки, – сказала Паула, – что-то о маршруте говорили.
– В высшей степени туманно. И в сослагательном наклонении, так что я даже не запомнил, какие-то намеки с целью разбудить в нас природный авантюризм и азартность. Короче, бесплатное морское путешествие с учетом международной обстановки. То есть нас не повезут ни в Алжир, ни во Владивосток, ни в Лас-Вегас. Главная хитрость – оплаченные отпуска. Какой же служащий устоит? Да и тревел-чеки прими в расчет. В долларах, заметь, в долларах.
– Да и возможность пригласить меня.
– Вот именно. И узнать, излечивает ли морской воздух и экзотические портовые города от любовного недуга.
– Как-никак, а лучше люминала, – проговорила Паула, глядя на него. Рауль тоже посмотрел на нее. Так они и смотрели друг на друга некоторое время, чуть ли не с вызовом.
– Ладно, – сказал Рауль, – хватит глупостей. Ты мне обещала.
– Ясное дело, – сказала Паула.
– Ты всегда говоришь «ясное дело», когда оно как раз самое что ни на есть темное.
– Обрати внимание. Я сказала: как-никак, а лучше люминала.
– Идет,on laisse tomber[9].
– Ясное дело, – повторила Паула. – Не сердись, милый. Я тебе очень благодарна, правда. Ты меня берешь с собой и вытаскиваешь из такого болота, пусть даже при этом гибнет моя и без того невысокая репутация. Право же, Рауль, я верю, что путешествие пойдет мне на пользу. Особенно если вляпаемся в какую-нибудь дурацкую историю. Вот смеху-то будет.
– Как бы ни обернулось, а разнообразие, – сказал Рауль. – Мне немножко поднадоело проектировать виллы для таких, как твое или мое семейство. Понимаю, что нашел довольно глупое решение и даже не решение, а просто отсрочку. В конце концов мы приплывем сюда же, и все снова будет в точности как прежде. Но может быть, чуть-чуть не точно так, как прежде.
– Одного не могу понять – почему ты не пригласил с собой какого-нибудь друга, кто тебе более близок, чем я.
– Возможно, именно поэтому, миледи. Чтобы эта близость не продолжала связывать меня с великой южной столицей. Не говоря уж о том, что близость, сама знаешь…
– По-моему, – сказала Паула, глядя ему в глаза, – ты просто потрясающий.
– Благодарю. Это, конечно, не совсем так, но ты помогаешь мне таким казаться.
– Я верю, что путешествие будет очень интересным.
– Очень.
Паула глубоко вздохнула. Внезапно – как будто ощутила что-то вроде счастья.
– Ты захватил таблетки от качки?
Но Рауль смотрел на шумную молодежную компанию.
– Боже, – сказал он. – Похоже, один собирается петь.
АПользуясь тем, что завязался диалог между матерью и сыном, Персио думает, оглядывает все вокруг себя, и ко всему, что видит вокруг, прилагает логос, или из логоса извлекает нить, в глубинной сути ищет тончайший хрупкий след к зримому, которое должно было бы – именно этого он хочет – открыть ему ход к синтезу. Без труда отсекает Персио второстепенные фигуры от центральных, действующих, рассчитывает и собирает воедино значащие элементы, проникает внутрь окружающих обстоятельств и перепахивает их вдоль и поперек, расчленяет и анализирует, отделяет и кладет на весы. И то, что он видит вокруг, обретает объем, который способен бросить в пот, породить видения, не имеющие никакого отношения к галлюцинациям, населенным тиграми и жесткокрылыми насекомыми, способен породить пыл, что преследует свою жертву неотступно, но без обезьяньих прыжков и лебединой эхолалии. Уже за пределами кафе остались статисты, наблюдающие за тем, как развертывается партия (теперь это становится игрой), и не знающие, чем она закончится. Персио находит все большее удовольствие в том, чтобы на плате отделять мимолетное сияние тех, кто остается, от тех, кому предстоит пуститься в плавание. Он знает не больше, чем они, о законах игры, но чувствует, что законы эти создаются тут, самими игроками, словно на бескрайней шахматной доске, где сражаются немые противники по законам, единым и для слона, и для коня, этих игрушечных дофинов и сатиров. Каждая партия – целая навимахия[10], каждый шаг – поток слов или слез, каждая клеточка на доске – песчинка, заключающая в себе море крови, или комичную участь белки в колесе, или провал жонглеров, что кувыркаются на лугу под звон бубенцов и аплодисментов.
Итак, добрые намерения властей, предпринятые с благой целью, а возможно (это точно никогда не известно), с вполне корыстным интересом, при которых судьба сама вычленяет счастливчиков, собрали это людское сообщество в «Лондоне», это маленькое воинство, в котором Персио различает правофланговых, фуражиров, перебежчиков и, возможно, героев, измеряет расстояние от аквариума до окна и ледяное течение времени между взглядом мужчины и подкрашенной улыбкой женщины, неизмеримую даль судеб, которые вдруг сошлись здесь в ужасающей мешанине из бесконечно одиноких существ: они встретились тут, выйдя из такси и поездов, оставив своих любовников, любовниц и конторы, и уже стали единым целым, которое пока еще не осознает себя таковым и не ведает, что может стать необычным поводом для запутанной истории, которая, возможно, рассказывается напрасно или не будет рассказана никогда.
X– Итак, – сказал Персио, вздохнув, – мы уже, наверное, стали единым целым, которого никто не видит, а может, кто-то видит, а кто-то не видит.
– Вы как будто выныриваете из водных глубин, – сказала Клаудиа, – и еще хотите, чтобы я вас понимала. Дайте хотя бы наводящие мысли. Или ваш фронт атаки непременно герметичен?
– Нет, зачем же, – сказал Персио. – Но дело в том, что гораздо проще увидеть, чем рассказать о том, что увидено. Я вам страшно благодарен за то, что вы берете меня с собой, Клаудиа. Мне будет так хорошо с вами и с Хорхе. Каждый день на палубе заниматься гимнастикой и петь, если только это разрешается.
– Ты никогда не плавал на пароходе? – спросил Хорхе.
– Не плавал, но читал романы Конрада и Пио Барохи, через несколько лет и ты будешь восхищаться этими писателями. Вам не кажется, Клаудиа, что, включаясь в какую-то деятельность, мы как бы отказываемся от чего-то, к чему принадлежим, чтобы стать частью другого неизвестного нам механизма, некой сороконожки, где мы будем всего-навсего одним колечком ее тела и двумя-тремя выхлопами вонючих газов, если использовать образ паровоза.
– Он сказал «вонючие газы»! – обрадовался Хорхе.
– Сказал, но совсем не то, что ты подумал. Мне кажется, Персио, что без этой способности отказываться, как вы выражаетесь, мы были бы не бог весть что. Слишком уж мы пассивны, слишком смиренно принимаем судьбу. Эдакие столпники, по сути, или вроде босховского святого с птичьим гнездом на голове.
– Мое наблюдение вовсе не аксиологично и не нормативно, – задиристо возразил Персио. – Просто я снова как бы впадаю в вышедший из моды унанимизм, но хочу найти ему иное толкование. Известно, что сообщество – это больше и в то же время меньше, чем сумма его составляющих. Мне же хотелось бы выяснить, если бы я мог ощутить себя в полной мере внутри и вне этого сообщества, – а я думаю, что это возможно, – является ли эта людская сороконожка по своему строению и консистенции чем-либо большим, нежели простая случайность; заключает ли в себе эта фигура некий магический смысл и способна ли эта фигура в определенных обстоятельствах двигаться в более сущностном понимании этого слова, нежели простое движение ее отдельных членов. Уф.
– В более сущностном? – сказала Клаудиа. – Разберемся сперва в этой подозрительной терминологии.
– Когда мы наблюдаем, например, за созвездием, – сказал Персио, – мы как бы принимаем за данность, что некое сообразие, ритм, объединяющий его звезды, и который мы предполагаем, – исходя из того, что там происходит нечто, определяющее это сообразие, – более глубок, более сущностен, нежели каждая отдельно взятая звезда. Вы не замечали, что отдельные звезды, которым не посчастливилось войти в созвездия, выглядят незначительными рядом с этими не поддающимися расшифровке небесными письменами? Не одни лишь астрологические и мнемотехнические доводы объясняют сакрализацию созвездий. Должно быть, человек с начала начал чувствовал, что каждое созвездие есть некий клан, сообщество, популяция: и если говорить об их поведении, они гораздо активнее, порою даже антагонистичны. Иногда ночами мне случалось наблюдать настоящие войны между звездами, невероятную по напряженности игру. Это при том, что с крыши дома, в котором я живу, видно не очень хорошо, в воздухе всегда стоит дым.
– Ты смотрел на звезды в телескоп, Персио?
– Нет-нет, – сказал Персио. – Видишь ли, на некоторые вещи надо смотреть голым глазом. Я не против науки, просто считаю: лишь поэтическое видение может объять смысл фигур, начертанных и составленных ангелами. Сегодняшний вечер в этом кафе может заключать в себе одну из таких фигур.
– Где эта фигура, Персио? – спросил Хорхе, оглядываясь по сторонам.
– Она начинается лотереей, – сказал Персио очень серьезно. – Шары, перемешавшись, выбрали из сотен тысяч людей нескольких мужчин и женщин. Эти счастливчики, в свою очередь, выбрали кого-то с собой в плавание, за что я, со своей стороны, чрезвычайно благодарен. Обратите внимание, Клаудиа, в строении этой фигуры нет ничего прагматического или функционального. Мы не орнамент розетты готического собора, мы на мгновение застывший эфемерный орнамент калейдоскопа. Но прежде чем он исчезнет, распадется от следующего прихотливого поворота, какие игры будут сыграны меж нами, в какой рисунок сложатся холодные и теплые цвета, какие сочетания дадут трезвые и мечтательные нравы и темпераменты?
– О каком калейдоскопе ты толкуешь, Персио? – сказал Хорхе.
И тут зазвучало танго.
XIИ мать, и отец, и сестра школьника Фелипе Трехо полагали, что неплохо бы заказать чай с пирожными. Кто знает, когда удастся поужинать на пароходе, да и отплывать на голодный желудок не стоило (мороженое – не еда, во рту расплывается). На пароходе лучше всего вначале поесть что-нибудь всухомятку и лечь на спину. При качке главное – не думать о ней. Тетушку Фелису начинало мутить всякий раз, когда она оказывалась в порту или просто видела в кино подводную лодку. Фелипе слушал рассказы, которые знал уже наизусть, и смертельно скучал. Сейчас мать расскажет, как ее молоденькой девушкой затошнило во время прогулки по Дельте. А сеньор Трехо напомнит, что он предупреждал ее в тот день, чтобы она не ела столько дыни. А сеньора Трехо скажет, что дыня тут ни при чем, потому что она ела ее с солью, и от посоленной дыни вреда не бывает. Ему бы хотелось знать, о чем говорят за столиком, где сидят Черный Кот и Лопес; наверняка о школе, о чем же еще могут говорить учителя. Надо бы, наверное, подойти к ним поздороваться. А с другой стороны, зачем – на пароходе они все равно встретятся. То, что Лопес оказался среди счастливчиков, еще куда ни шло, он парень мировой, а вот выигрыш Черного Кота – это уже подлянка.
Неизбежно мысли вернулись к оставшейся дома Негрите, когда он уходил, лицо у нее было не очень грустное, но все-таки грустноватое. Не из-за него, разумеется. Конечно, эта шлюшка печалилась, что не может отправиться в плавание с хозяевами. Дурак он все-таки круглый, потребуй он как следует, чтобы и Негрита поехала с ними, матери пришлось бы сдаться. Или Негрита с ними – или вообще никто. «Но, Фелипе…» – «А что такого? Разве тебе не нужна на пароходе прислуга?» Но тогда бы они поняли его намерения. С них станется, могли и свинью подложить, он же еще несовершеннолетний, пожаловались бы наставнику – и не видать тебе морского путешествия как своих ушей. «А могли бы предки из-за этого пожертвовать плаванием?» – подумал он. Да ни за что на свете. А, да на что она сдалась ему, эта Негрита. Так и не впустила к себе в комнату, хоть он и тискал ее вовсю в коридоре, хоть и обещал подарить ей часики, как только вытянет денежки у старика. Сама-то, конечно, ничего особенного, но вот ноги… Фелипе почувствовал слабость в членах и размягченность, предвещавшие прямо противоположное ощущение, и выпрямился на стуле. Высмотрел пирожное, на котором было побольше шоколада, и на долю секунды опередил Бебу.
– Снагличал, как всегда. Обжора.
– Ладно тебе, дама с камелиями.
– Дети… – сказала сеньора Трехо.
Неизвестно, будут ли на пароходе девицы, которыми стоило бы заняться. Ему вспомнился – помимо воли, но настойчиво – Ордоньес, с пятого курса, он верховодил в их компании, вспомнились советы, которые он давал ему однажды летней ночью на скамейке у Конгресса. «Не тушуйся, парень, ты уже не маленький, чтобы малафьей заливаться, с этим делом пора кончать». Он возражал, смущенно и пренебрежительно, а Ордоньес похлопывал его по колену, подбадривая. «Давай, давай, не придуривайся. Я старше тебя на два года и знаю. Не для тебя эти детские забавы, че. Я тебя разве плохому учу? Ты уже на танцы ходишь, так что одного этого тебе мало. Первую же, какая согласится, волоки в Тигре, там можешь ее завалить, где хочешь. Если с монетой туго, только скажи, я попрошу брата, он счетовод, пустит тебя в свою хибару на вечерок. В постели-то, ясное дело, сподручнее…» И еще много чего вспомнилось, разные подробности, дружеские советы. Хоть Фелипе и чувствовал себя неловко, хоть и злился, но Ордоньесу был благодарен. Не то что Алфиери, например. Конечно, Алфиери…
– Кажется, сейчас будет музыка, – сказала сеньора Трехо.
– Какая пошлость, – сказала Беба. – Этого не следовало позволять.
Сдавшись на дружные уговоры родственников и друзей, популярный певец Умберто Роланд уже поднялся на ноги, а Мохнатый с Русито, не переставая убеждать и по-свойски подталкивая, помогали бандонеонистам усесться поудобнее и расчехлить инструменты. Звучали шуточки, смех, у окон, выходивших на Авениду, столпился народ. В окно, выходившее на Флориду, растерянно глядел полисмен.
– Потрясно, потрясно! – кричал Русито. – Че, Мохнатый, ну и братан у тебя, ништяк!
Мохнатый уже стоял возле Нелли и знаками призывал к тишине.
– Минуточку внимания, че! Мамочка родная, да что же это такое, не кафе, а бардак.
Умберто Роланд прокашлялся и пригладил волосы рукой.
– Просим извинения, мы не смогли прийти с ударными, – сказал он. – Что получится, то получится.
– Давай, парень, давай.
– В честь отъезда моего дорогого брата и его симпатичной невесты я вам спою танго Виски и Кадикамо «Отчаянная куколка».
– Потрясно! – сказал Русито.
Бандонеоны проиграли заливистое вступление, и Умберто Роланд, опустив левую руку в карман брюк, простер правую перед собою и запел:
Че, мадам, вы говорите по-французски,Шампань вы пьете и едите вкусно,Не зная удержу, швыряетесь деньгами,И жизнь для вас – как танго без конца…Неожиданное и столь же непривычное для «Лондона» звуковое извержение сразу обратило на себя всеобщее внимание, и, меж тем как за столиком Мохнатого воцарилась мертвая тишина, шум и разговоры вокруг стали еще слышнее. Мохнатый и Русито обводили присутствующих гневным взглядом, а Умберто Роланд форсировал голос.
И дружбу водите, мадам, вы с кем попало,А вам всего лишь двадцать весен миновало…Карлос Лопес был в восторге, о чем он и сообщил Медрано. Доктора Рестелли атмосфера – как он сказал, – складывавшаяся в кафе, откровенно раздражала.
– Позавидуешь раскрепощенности этих людей, – сказал Лопес. – Их поведение в пределах возможностей, которыми они располагают, почти совершенно, они даже не подозревают, что в мире есть что-то, кроме танго и клуба «Расинг».
– Посмотрите на дона Гало, – сказал Медрано. – По-моему, старик испуган.
Дон Гало уже вышел из столбняка и теперь подавал знаки шоферу, который тут же бросился к нему, выслушал хозяина и выскочил из кафе. Все видели, как он говорил что-то полицейскому, который наблюдал сцену через выходившее на Флориду окно. Потом видели, как полицейский поднял кверху руку, сжатую в кулак, и потряс ею в воздухе.
– Вот так, – сказал Медрано. – А собственно, что они сделали плохого?
Мужчин меняете, мадам, вы, как перчатки,И вас отчаянною куколкой зовут…Паула и Рауль от души наслаждались сценой, а Лусио с Норой, судя по всему, находились в замешательстве. Семейство Фелипе Трехо хранило холодно-непроницаемый вид, а сам Фелипе завороженно следил за порхающими по клавиатуре пальцами бандонеонистов. Хорхе приступил ко второй порции мороженого, а Клаудиа с Персио по-прежнему были погружены в метафизическую беседу. И над всеми ними, над безразличием или откровенным удовольствием посетителей кафе «Лондон», Умберто Роланд приближался к печальной развязке прославленного аргентинского танго:
Промчались годы, ты любовь не сохранила,И молодость пропала без следа…Под восторженные крики, аплодисменты и стук ложечек о стол Мохнатый растроганно поднялся на ноги и заключил брата в объятия. Потом пожал руки троим музыкантам, ударил себя ладонью в грудь и, достав огромный носовой платок, высморкался. Умберто Роланд снисходительно поблагодарил за аплодисменты, Нелли и другие девицы нестройным хором восторгались, на что певец отвечал неувядающей улыбкой. В этот момент ребенок, которого до тех пор никто не замечал, издал мычание, подавившись, по-видимому, пирожным, за столиком поднялся переполох, его перекрыл призыв к Роберто принести стакан воды.
– Ты пел грандиозно, – говорил расчувствовавшийся Мохнатый.
– Как всегда, не более, – отвечал Умберто Роланд.
– Какие в нем чувства играют, – высказалась мать Нелли.
– Он всегда был такой, – сказала сеньора Пресутти. – Об ученье и слушать не хочет. Он искусством живет.
– Совсем как я, – сказал Русито. – Кому оно нужно, это ученье. Чтобы деньги зашибать, нам ума не занимать.
Нелли наконец извлекла остатки пирожного из глотки ребенка. Толпившиеся у окон люди начали расходиться, и доктор Рестелли оттянул пальцем крахмальный воротничок, выказывая явное облегчение.
– Ну вот, – сказал Лопес. – Похоже, настал момент.
Два господина в темно-синих костюмах усаживались посреди зала. Один коротко похлопал в ладоши, а другой знаком призвал к тишине. И голосом, который не нуждался в таковой, произнес:
– Просим посетителей, не имеющих письменного приглашения, и провожающих покинуть помещение.
– Чиво? – спросила Нелли.
– Таво, что мы должны уйти, – ответил один из приятелей Мохнатого. – Только начали развлекаться – и на тебе.
Когда первое удивление схлынуло, послышались восклицания и возражения. Мужчина поднял руку и сказал:
– Я – инспектор Управления экономического развития и выполняю указания руководства. Попрошу приглашенных оставаться на местах, а остальные пусть выйдут как можно скорее.
– Смотри-ка, – сказал Лусио Норе, – вся улица оцеплена полицейскими. Как будто усмирять пришли.
Персонал «Лондона», удивленный не меньше посетителей, не успевал рассчитать всех разом, возникли сложности со сдачей, кто-то возвращал несъеденные пирожные, словом, неразбериха. За столиком Мохнатого послышались рыдания. Сеньора Пресутти и мать Нелли надрывно прощались с родственниками, остававшимися на суше. Нелли утешала мать и будущую свекровь, Мохнатый снова заключил в объятия Умберто Роланда, и вся компания дружно хлопала друг друга по спине.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Полагаю (англ.).
2
Обращение-междометие, принятое в Аргентине.
3
Здесь: тяни-толкай (англ.).
4
Что и требовалось доказать (лат.).
5
Бандонеон – вид гармоники.
6
Человек, всем обязанный себе самому (англ.).
7
Дилан Томас (1914–1953) – английский поэт, прозаик, драматург.
8
Неотвратимость рока (фр.).
9
Оставим это (фр.).
10
Навимахия – искусство морского боя.