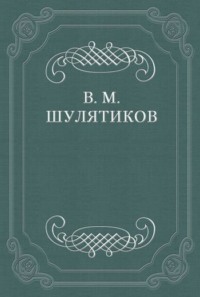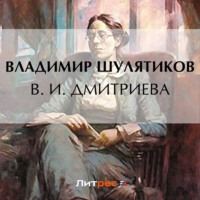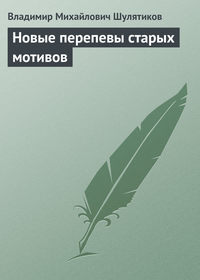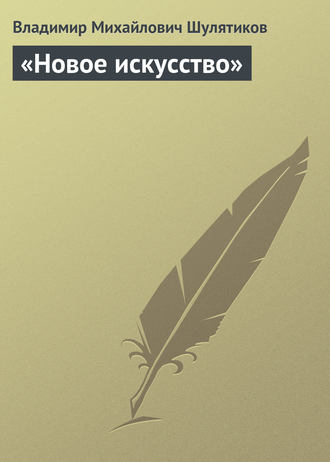 полная версия
полная версия«Новое искусство»
Свои грезы о сверхчеловеке он воплощает в оригинальных образах. То этот сверхчеловек является у него в виде длиннокрылого альбатроса: альбатрос «дерзок, красив и могуч», низвергается с неба и отнимает добычу у морской птицы-»глупыша». Г. Бальмонт славит его разбойнический образ действий.
Морской и воздушный разбойник, тебе я слагаю свой стих,Тебя я люблю за бесстыдство пиратских порывов твоих.
То сверхчеловека поэт отыскивает в толпе блаженных скифов, которым «воля одна превыше всего дорога», которые не имеют ни капищ, ни богов, все счастье которых – война, которые саранчой налетают «на чужое» и бесстрашно, без всяких колебаний насыщают свои алчные души. То г. Бальмонт жаждет сделаться сверхчеловеком, перевоплотившись в испанца – завоевателя, «опьяненного своей и чужой кровью», он хочет быть «первым в мире; на земле и на воде», хочет, чтобы ему «открылись первобытные леса, чтобы заревом над Перу засветились небеса», хочет «меди, золота, бальзама, бриллиантов и рубинов, крови, брызнувшей из груди побежденных властелинов», хочет, «стремясь от счастья к счастью», пройтись по океанам, по раскаленным пустыням, хочет «с быстротой аравийского коня всюду мчаться за врагами».
Но грезам о воинственном хищнике, навеянном образом ницшевского сверхчеловека, не суждено осуществиться: создав два-три чисто ницшевских образа г. Бальмонт видоизменяет характер этих образов. Душащие избытком сил хищники ему не по душе: пессимистические ноты, звучащие в его душе, его утомленность, отсутствие в нем настоящей жизненной энергии превращает мечты о торжествующем героизме сверхчеловека в мечты о героизме гибели сверхчеловека. Сверхчеловек воплощается в образ скорпиона. Скорпион окружен кольцеобразным огнем, он присужден к смерти, окружен отовсюду врагами. Тогда, перед взорами врагов он «исполняется безвольным порывом», гордо шлет вызов судьбе и вонзает жало в собственное тело.
Я гибну. Пусть. Я вызов шлю судьбе.Я смерть свою нашел в самом себе.Я гибну скорпионом – гордым – вольным.
Это единственно возможный для декадента героизм.
Таков, в самых общих чертах психический и нравственный облик современного декадента. Г. Бальмонт отождествил этот облик вообще с обликом современного человека: он назвал свою лирику – «лирикой современной души». И он глубоко не прав, кидая в лицо всему интеллигентному русскому обществу обвинение в декадентстве.
В увлечении декадентством повинна только самая незначительная его часть, повинны только представители небольших, определенных общественных групп.
Кто они? На этот вопрос уже давно дали ответы различные современные науки, начиная с таких мало разработанных, как история литературы и социология, и кончая такими точными науками, как демография и политическая экономия: выражаясь модным термином, декаденты-идеологи общественных групп, по тем или другим причинам очутившихся вне центра современной созидательной общественной работы, вне очага современного прогрессивного общественного развития и притом групп до известной степени обеспеченных материально.
При современной системе общественного развития, все более и более принимающего стихийный характер, приобретающего все большую ускоренность и все большую сложность, при современном обращении всего мира в такой «чувствительный организм», отдельные ячейки которого находятся, даже наиболее удаленные друг от друга, в самой тесной зависимости между собой и роковым, чисто неожиданным образом влияют один на другого, только тот, кто активно участвует в общей работе, только тот, кто трудится, может быть застрахован от пессимистического индивидуализма, только тот не теряет веры в собственные силы. Прочие все неминуемо заражаются унынием, тоской, отчаянием, волевым бессилием. Жизнь не имеет для них никакого обаяния и прелести. Они не в состоянии не только воздействовать на ход общественной жизни, но даже и разобраться в сложности общественных отношений. Они бегут от жизни, они думают лишь об эгоистических способах самозащиты. Не будучи производительными участниками общества, они начинают ненавидеть всякую производительную энергию. Но предки наградили их известным материальным довольством, сообщили им культурный лоск. Они находят себе утешение в культурной «утонченности», в нервной и умственной эквилибристике, в чувственном неврозе, в наслаждении собственной личностью, в беззастенчивом эгоизме, в опьянении гипнозом окружающей их изысканной обстановки…
Этими людьми в большинстве случаев являются интеллигенты-рантье и интеллигенты, вышедшие из рядов некогда славных феодалов. К их сонму изредка присоединяются, их веру начинают исповедовать и другие интеллигенты, но непременно интеллигенты, по тем или другим причинам, поставленные вне арены общественной работы.
III
Вслед за немецким философом один из его русских последователей г. Мережковский[9] в поисках за сверхчеловеком обратился к эпохам «поздних» культур, к эпохам «разложения». Он нашел прообразы сверхчеловека в эпоху поздней борьбы античного мира с миром христианским – в эпоху поздней борьбы средневековья с новой культурой, в эпоху итальянского Ренессанса конца XVI столетия, в эпоху позднего разложения московской Руси – в эпоху Петра Великого. Изображение этих трех эпох, ознаменованных решительной борьбой двух начал – борьбой «Голгофы с Олимпом», начала духовного с началом плотским, начала светлого с началом темным – и должно составить содержание задуманной русским поэтом трилогии романов. Две части этой трилогии, «Отверженный» и «Воскресшие боги», уже находятся в распоряжении читающей публики. Третья часть появится, согласно обещанию г. Мережковского, лишь через несколько лет. Последнее обстоятельство не позволяет нам судить о трилогии, как о целом, не позволяет оценить вполне гармонию и связь ее составных частей. Поэтому мы позволим себе в настоящую минуту ограничиться разбором ее одной, только что оконченной части, разбором романа «Воскресшие боги»[10].
Мы не будем говорить о «Воскресших богах», как о романе историческом, не будем разбирать вопроса о том, насколько изображенный в нем Ренессанс соответствует Ренессансу, который знает история, насколько герои романа похожи на известных исторических лиц. Исходная точка зрения автора, его ницшеанский культ героев, уже сама по себе исключает возможность строго научной характеристики изображаемой эпохи. На «Воскресших богов» следует смотреть прежде всего, как на иллюстрацию к философским трактатам Ницше, как на воплощение отвлеченных рассуждений немецкого теоретика в художественные образы, как на своего рода дидактический роман, поучающий читателя тому, каков должен быть идеальный сильный человек и что он должен делать в тех или других положениях и случаях своей жизни.
И надо признаться, что ницшеанец-романист очень точно в исполненной им художественно иллюстрации передал мысль своего учителя, что он пользовался всеми существенными указаниями немецкого философа, касающимися психологического и морального облика идеального сильного человека и его социального мировоззрения. Даже в самом выборе героев романа г. Мережковский находился под несомненным влиянием Ницше: Ницше неоднократно отмечал эпоху возрождения, как эпоху, особенно богатую избранными натурами; Ницше считал идеальными, сильными людьми, например, таких правителей-политиков. Как Цезарь Борджиа[11] таких художников-мыслителей, как Леонардо да Винчи[12].
Следуя указаниям Ницше, г. Мережковский окружил ореолом недосягаемого величия людей эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи он сделал главным героем своего романа; знаменитому художнику он противопоставил других представителей «сверхчеловеческого» – Цезаря Борджиа и Никколо Макиавелли; далее к типу сверх человека он приблизил миланского герцога Моро, его жену Беатриче, папу Александра Борджиа. Одним словом, перед читателем целая галерея людей весьма отличных друг от друга, идущих к своей цели различными путями, но людей сильных и великих. С ницшеанской точки зрения.
Их величие заключается в том, что все они, воспитанные среди упорной борьбы двух враждебных культур. Нося в себе «наследство различных отцов», умели стать выше самих себя, примирить борющиеся в них самих верования, моральные побуждения, чувства и идеи. Оставаясь верными чадами католической церкви, они усвоили культ языческих богов. Поклонение сверхчувственному началу, проповедуемому католической догматикой, они сочетали с поклонением самой чувственной плотской красоте. Их набожность нисколько не мешает им вольнодумствовать. С самым откровенным скептицизмом они соединяют зачастую самое грубое суеверие. Наиболее альтруистические движения души им в той же степени свойственны, как и полное равнодушие к чужим страданиям, а иногда и возмутительная жестокость. В одно и то же время они могут испытывать самые противоположные чувства.
Приведем несколько примеров. Папа Александр, этот «Багряный зверь», как его называли, этот чудовищный развратник был страстный почитатель классического искусства. Один золотых дел мастер вырезал на большом изумруде изображение Венеры Каллипиги. Александр так был восхищен этим изображением, что велел ставить этот камень в крест, «которым благословлял народ во время божественных служб в соборе Петра и, таким образом, целуя Распятие, в то же время целовал прекрасную богиню». Но из этого вовсе не следует, что он был безбожником.
«Не только исполнял он все внешние обряды церкви, но и в тайне сердца своего он был набожен».
Этот же Александр VI без малейшего нравственного колебания отправляет на тот свет врагов и окружающих его богатых кардиналов (последних с целью поживиться их состоянием). Но, убив их, он начинает искренне оплакивать их смерть.
Герцог Моро потерял свою жену. Он горько оплакивал ее в обществе двух своих любовниц, из которых одна была косвенной причиной смерти Беатриче. Он с непритворной нежностью слушает, как ему одна из этих любовниц декламирует стихи Петрарки о небесном видении Лауры, он закрывает глаза, ему кажется, что он видит перед собой тень жены, он, рыдая, склоняется на плечо Лукреции Кривелли – и в то же время обнимает ее стан и начинает страстно целовать ее…
Макиавелли и Леонардо да Винчи составили план спасения одной девушки из когтей развратного Цезаря Борджиа. Но спасти Марию (так звали эту девушку) им не удалось: накануне дня, назначенного для освобождения Марии, тюремные служители нашли девушку лежащую на полу тюрьмы с перерезанным горлом. Известие о ее смерти произвело на Леонардо своеобразное впечатление.
«Леонардо жалел Марию, и ему казалось, что он не остановился бы ни перед какою жертвою. Чтобы спасти ее, но в то же время в самой тайной глубине сердца его было чувство облегчения, освобождения при мысли о том, что не надо больше действовать, и он угадывал, что Никколо испытывает то же самое».
Леонардо да Винчи рисует свою последнюю картину – Иоанна Предтечу, картину, в которой он хочет высказать «самую заветную тайну свою».
«Глубина картины напоминала мрак пещеры, возбуждавшей страх и любопытство… Мрак этот, казавшийся сперва непроницаемым, но по мере того как взор погружался в него, делался прозрачным, так что самые черные тени, сохраняя всю свою тайну, сливались с самым белым светом, скользили и таяли в нем, как дым, как звуки дальней музыки. И за тенью, за светом являлось то, что не свет и не тень, а как бы «светлая тень» или «темный свет», по выражению Леонардо. И, подобно чуду, но действительнее всего, что есть, подобно призраку, но живее самой жизни, выступило из этого светлого мрака лицо и голое тело женоподобного отрока, обольстительно прекрасного, напоминающего героя из трагедии Еврипида…
Самой заветной тайной Леонардо да Винчи, стало быть, была мысль о полном примирении, гармоническом сочетании католической мистики с греческим натурализмом.
Так заставил г. Мережковский своих героев разрешить психологическую проблему о сверхчеловеке; он сделал их совершенно чуждыми «двоящихся мыслей», заставивши их находить жизненную прелесть в игре противоположных, непримиримых элементов, заставивши их искренне, непосредственно отдаваться волнующим их мыслям и чувствам, не справляясь ни о происхождении, ни о моральной оценке этих мыслей и чувств, узаконивши решительно все эти мысли и чувства.
Подобная душевная цельность и уравновешенность есть общий отличительный признак всех созданных г. Мережковским сильных людей. Но его сильные люди во многом отличаются друг от друга, представляют из себя характерные разновидности общего типа.
У самого Ницше, который неоднократно пытался начертать образ сверхчеловека, этот сверхчеловек получал каждый раз особенный облик. Иногда сверхчеловек у Ницше является в виде «белокурого зверя», кровожадного, коварного хищника, безжалостно угнетающего слабых, наслаждающегося их страданиями, подобно тому, как первобытный дикарь наслаждается страданиями побежденных врагов. Иногда сверхчеловек представляется воображению Ницше мудрым философом-анахоретом, всесторонне развитым, всеведущим, носителем неограниченной духовной власти. О последней разновидности сверхчеловека особенно часто говорил Ницше, он составил подробный кодекс морали, долженствующий служить для руководства в деле воспитания будущего сверхчеловека-философа.
Этому сверхчеловеку-философу отдает г. Мережковский пальму первенства перед другими разновидностями сверхчеловеческого типа.
Он делает сравнение трех представителей сверхчеловеческого начала. Коварный хищник, романский тиран Цезарь Борджиа руководится всецело слепым инстинктом, не знающим никаких преград и никаких пределов власти. Макиавелли – сверхчеловек в области политики, исследователь «законов естественных», управляющих жизнью всякого народа, находящихся вне человеческой воли, вне зла и добра». Леонардо да Винчи – эстетик-мыслитель, бесстрастный ученый, отожествляющий «совершенное знание» с «совершенной верой» с «любовью», пытающийся гармонично сочетать «действительность» с «созерцанием». Устами Леонардо да Винчи г. Мережковский произносит приговор над этими разновидностями сверхчеловека: «Мне кажется, не тот свободен, кто, подобно Цезарю, смеет все, потому что не знает и не любит, а тот, кто смеет, потому что знает и любит все. Только такой свободой люди победят зло и добро, верх и низ, все пределы и пределы земные, все тяжести, станут, как боги, и – полетят»…
Лица же, подобные Макиавелли, не одержат победы и не будут властвовать, подобно богам, потому что их знание есть ненависть, а не любовь.
Итак, победа не за «белокурым зверем», а за мыслителем. И этот мыслитель, на закате своих дней, влача жизнь бездомного скитальца, увидевши гибель наиболее дорогих ему надежд и творений, все-таки уверенный в торжестве своих начинаний, остается чужд всякого пессимизма.
Сравнивая с жизнью двух людей, Моро и Цезаря, полной великого действия и промелькнувшей, как тень без следа, свою собственную жизнь, полную великого созерцания, Леонардо находил ее менее бесплодной и не роптал на судьбу.
Как не прожил свою небесплодную жизнь герой «великого созерцания»? Он жил по правилам, строго определенным в кодексе Фридриха Ницше. В этом кодексе значится: «Каждый избранный человек инстинктивно стремится в свою крепость, в свое уединение, где он избавлен от толпы»[13]
«Философы и друзья, берегитесь мученичества! Берегитесь страдания «правды ради»! Берегитесь самозащиты! У вашей совести отнимается всякая ненависть и тонкое беспристрастие, вы тупеете. Вы становитесь зверьми, если вы в борьбе с опасностями, с поношениями, опозорениями, изгнанием и другими еще худшими проявлениями вражды, должны разыгрывать роль защитников истины на земле: как будто «истина» такая наивная и неповоротливая особа, которая нуждается в защитниках!.. Лучше уйдите прочь! Бегите в потаенное уединение! Наденьте маску: пусть вас не узнают! Или пусть вас немного бояться! И не забывайте о саде, о саде с золотой оградой! И окружите себя людьми, которые будут подобны саду!»[14].
Леонардо да Винчи исполнил эти предписания в точности. Он совершенно изолировал себя от толпы. Он чужд всех ее интересов, он не доступен ее настроениям. Толпа потрясена пламенной речью Савонаролы; кругом Леонардо да Винчи тысячи голосов повторяют: «!!!!!!!!!», несется покаянный вопль народа, сливаясь с многоголосым ревом и гулом органа, потрясая землю, каменные столбы и своды Собора», – Леонардо, чуждый всем, один сохраняет совершенное спокойствие и рисует голову проповедника. В Милане идет бой между итальянцами и французами, летят ядра, пылают дома, люди, как черные тени, снуют, мечутся «обуянные ужасом». Один Леонардо не принимает участия в общей тревоге. Он думает о только что сделанном им открытии закона механики – угол падения равен угу отражения. И в блеске огня, в криках толпы, в гуле набата, в грохоте пушек он видит лишь «тихие волны звуков и света», колеблющиеся и расходящиеся согласно требованиям этого закона. Мимо Леонардо проходят исторические события, кипит борьба партий, сменяются политические формы. Леонардо равнодушен решительно ко всем политическим и социальным вопросам. Как настоящий ницшевский сверхчеловек-философ, он отказывается от всякого единения «с бессмысленной чернью», от всякого желания вникнуть в интересы толпы. Он не спрашивает себя, чьим интересам он служит, он не знает, что такое политическая измена: сегодня он исполняет поручения флорентийского республиканского правительства, завтра он, по повелению злейшего врача Флоренции – Цезаря Борджиа, снимает планы с флорентийских крепостей. Мало того, исполненный глубокого презрения к толпе, он создает чудовищные планы, например, план города с двухъярусными улицами – верхними для благородных, нижними – для «черни, вьючных животных и нечистот», план города, «построенного согласно с точным знанием законов природы, но для таких существ, у которых совесть не смущается перед вопиющим неравенством, разделением на избранников и отверженных»…
Наконец, перед «презренной толпой» он не желает разыгрывать роли «защитника истины». Он удаляется в «сад с золотой оградой». В глубине своего кабинета он делает одно за другим великие открытия в различнейших областях человеческого знания. Но он бережет свои открытия втайне от всего мира. Он поверяет их только бумаге, и, составляя таким образом объемистые манускрипты, он отказывается до самой смерти опубликовывать их. Он верит в одно: «сила – в одиночестве» и патетически восклицает: «Пусть один. Пусть во мраке, в молчании, в забвении. Пусть никто никогда не узнает. Я знаю!» И, сильный своей замкнутостью, ничего не оспаривающий, ничего не защищающий, он поселяет в душе окружающих чувство суеверного страха. Толпа считает его за чародея, знакомого с тайнами магии. Наиболее преданный из его учеников, Джиованни Бельтраффио, охваченный ужасом перед его сверхчеловеческим величием и таинственностью, бежит из его дома.
Завоевавши себе подобную аристократическую независимость, всецело отдавшись «великому созерцанию» и искусству, Леонардо и в области созерцания остается сверхчеловеком. Он не простой «поденщик» науки и не раб науки. В своих исследованиях и опытах он не идет «ремесленным» путем, путем кропотливого, строго логического, чисто рассудочного анализа. Его работами руководит и его чувство, и его инстинкт в той же степени, как и его разум. Математическая точность у него сочетается со стихийным вдохновением. Наука у него переходит в искусство. Искусство – в науку. Он бросается от одной работы к другой, от одного предмета к другому, руководясь императивом непосредственного чувства, императивом инстинкта: работая над картиной, он внезапно увлекается изображением машины для приготовления колбас, от механики переходит к химическим опытам, от химии к астрономии, от астрономии к орнитологии или энтомологии, и так без конца. Словом, он работает так, как вообще привыкли действовать и чувствовать все сильные люди Возрождения. Подобно тому, как самые противоположные настроения и идеи не вносят дисгармонии в душевный мир сильных людей эпохи Возрождения, а напротив, имеет для последней обаяние жизненной прелести, точно также самые противоположные работы доставляют только наслаждение мыслителю-сверхчеловеку. В науке и искусстве он находит полноту жизни, полноту жизненных ощущений.
В заключение остается упомянуть еще об одной черточке, дополняющий характеристику сверхчеловека-мыслителя, – об его отношении к любви.
В жизни Леонардо был только один роман. Леонардо рисовал портрет с жены одного флорентийского гражданина моны Лизы Джиоконды и почувствовал к ней глубокое влечение. Но эта не была обыкновенная любовь: он полюбил мону Лизу не чувственной и не платонической любовью, не как женщину и не как призрак. Он сочетал в своей любви поклонение призраку и поклонение живой красоте. В моне Лизе он любил выражение «призрачной прелести – чуждой, дальней, не существующей и более действительной, чем все, что есть». Но бывали и другие минуты, когда он чувствовал ее живую красоту.
Кроме того, мона Лиза являлась для него «отражением его собственной души в зеркале женственной прелести». Он полюбил в ней самого себя. Рисуя ее портрет, он придавал этому портрету черты собственного тела и лица. И раньше, во все свои художественные произведения он старался вложить черты своего «я»: «как будто всю жизнь, во всех своих сознаниях искал он отражения собственной прелести», и полное отражение «собственной прелести» он нашел лишь в лице Джиоконды. И когда на лице Джиоконды он увидел чуждые ему черты, когда в душе Джиоконды шевельнулись чуждые ему движения, его роман приблизился к развязке.
Так во всем и всегда сверхчеловек оставался верен самому себе, своей цельной, самодовлеющей, враждебной мельчайшим внеш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IV
В ряде блестящих очерков «Волей-неволей» Глеб Успенский[15] некогда старался выяснить «психические основы» народнического движения. Психический облик народника, по мнению Глеба Успенского, определялся прежде всего явлениями социального порядка. Источники народнических настроений нужно искать в устоях крепостного права. Истинные народники, подобные Тяпушкину, герою вышеназванных очерков, вышел из слоев народа, испытавших на себе всю тяжесть крепостных уз. Не видя вокруг себя ничего, кроме бессильных страданий и бессильного озлобления, незнакомые с «человеческим участием, человеческим вниманием к ним», с детства забитые и угнетенные, Тяпушкины, естественно, не могли всесторонне развиваться; условия их обстановки не воспитывали в них должного сознания человеческого достоинства, не позволяли им «культивировать их собственное «я». Они, напротив, боялись заглянуть вглубь собственного «я», они боялись собственной личности: она была для них синонимом страдания. Более того, они боялись вообще каждого живого человека, так как в каждом живом человеке, в каждой человеческой личности они находили все те же страдания. Их сердце становилось до известной степени атрофированным. «Личное участие, личная жалость была им не знакома, чужда. В их сердце не было запаса человеческих чувств, человеческого сострадания, которое они могли бы отдавать отдельным личностям». И они старались уйти от собственною «я», от всякой человеческой личности, от «подлинного человеческого стона». Они старались успокоиться на представлении об отвлеченных страданиях, о всечеловеческом горе, на любви к человеческим массам. Они бежали «к каким-то живым массам несправедливостей, неурядиц, требований, одушевленных в виде человеческих масс, а не человеческих личностей.
Уйти в «толпу», дабы уйти от самого себя, – такого принципа держались представители передового общественного движения в 70-х годах, по словам наиболее искреннего, наиболее вдумчивого идеолога этого движения. Исстрадавшийся разночинец-интеллигент, по воле исторических обстоятельств, шел на альтруистический подвиг, на самопожертвование, на служение народу.
Это самоотречение, этот альтруизм – великое наследство, оставленное народничеством, – приобрели значение священного догмата в глазах последующих поколений передовой интеллигенции. Интеллигенция различнейших оттенков и направлений неукоснительно исповедовала этот догмат на протяжении целых десятилетий вплоть до наших дней. Лишь в самое последнее время сделана дерзновенная попытка подорвать веру в этот догмат.
Попытка исходит далеко не из лагеря заведомо отъявленных обскурантов и поборников реакции. Во главе движения, проповедующего вместо альтруизма – ненависть к народу, вместо самоотречения – служение самому себе, вместо стремления уйти от собственной личности – крайний культ собственной личности, стоят писатели, некогда зарекомендовавшие себя несомненными прогрессистами; ницшеанство, теория, наиболее ярко отразившая эти антисоциальные и антиальтруистические тенденции, никем не признается, несмотря на то, что многие из его заповедей говорят в пользу реакции, теории консерватизма.
Как же могло произойти подобное странное явление, подобный поразительный раскол в рядах прогрессивной интеллигенции?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего обратиться ко временам той интеллигенции, которая сменила народническую интеллигенцию на исторической авансцене, той интеллигенции, наиболее характерными выразителями которой явились Надсон, Гаршин, Минский[16]. Эта интеллигенция вовсе не состоит в прямом родстве с интеллигенцией, представленной именами Левитова[17], Успенского, Наумова[18]. Интеллигенты начала 80-х годов вышли совершенно из иной среды, развивались при совершенно иных условиях, чем интеллигенты-народники. Последние вышли из провинциальной глуши, из рядов провинциального духовенства, мелкого провинциального чиновничества, изредка мелкопоместного дворянства. Интеллигенты начала восьмидесятых годов – дети столичной культуры. Их детские и юношеские годы ничем не напоминают соответствующих годов из биографии Тяпушкина; эти интеллигенты росли в более обеспеченной и более спокойной обстановке. Над ними не тяготел кошмар крепостного права, они с детства не томились в тисках безысходного социального рабства, не задыхались с детства в атмосфере бессильных стремлений, озлобления, самобичевания, они не чувствуют себя совершенно бесправными членами общества. Они с детства знакомились с вершинами человеческой цивилизации, с плодами утонченной столичной культуры, с богатством научных знаний и богатством эстетических ощущений. Из них вырабатывались артистические натуры. Эстетика, отвергнутая еще со средины шестидесятых годов, вновь приобретает право гражданства в глазах передовой интеллигенции. Но эстетическое развитие – только одна сторона их всестороннего развития. С детства не забытые и не угнетенные, они могут «культивировать» в себе «человеческое достоинство», культивировать собственное «я», они получают должное понятие о человеческих правах, о правах личности. Их сердце далеко от состояния атрофии.