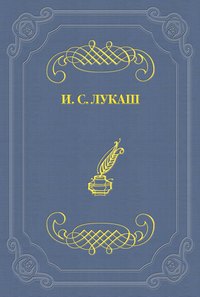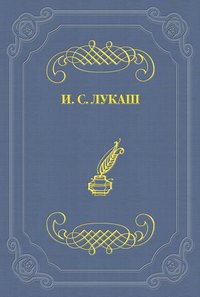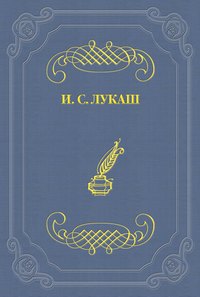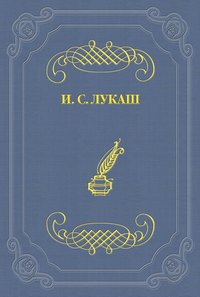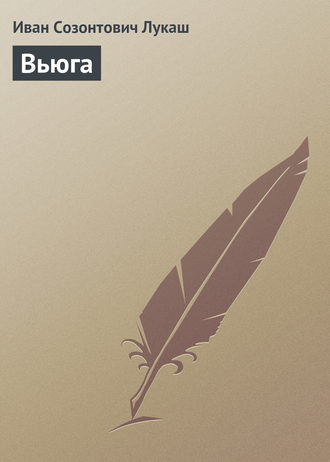
Полная версия
Вьюга
Мать принимала безропотно, что за домашнее виновата она. Она принимала и то, что Николай равнодушен и груб с ней, что Ольга, раздраженная тем, что не почищены ее тоненькие шевровые башмаки, кидает их ей с такой же злостью, как няньке Алене. Мать думала, что ничего другого она не умеет делать, как только обшивать, чистить и штопать на отца и детей.
Николай и Ольга считали себя во всем умнее матери. Ольга стыдилась, что мать простовата, кажется, плохо грамотна, что при подругах вместо «национальный» как-то сказала «нациальный».
Мать так заботилась о них, так ходила за ними и безропотно принимала от них обиды, грубость, капризы, что Николай и Ольга думали, что так это и должно быть.
Один Пашка помнил прозрачное тепло матери и вечером, когда она штопала носки отцу, надевши очки, потому что дурно стала видеть, забирался к ней на кресло. Он грелся под ее платком и мечтал с открытыми глазами.
Пашка чувствовал, что мать все ему прощает, что для матери он не дурак, не лентяй, как для других. Пашка был последний, поскребушек, и мать смотрела на него с такой улыбкой, от которой ее лицо молодело.
Она вся была в детях, в самых мелочах жизни. Каждый ее день и каждая ночь были одной заботой о мельчайшем, о таком, чего бы никто и не заметил, кроме нее.
Это худое тело, легкую фигурку, бесшумно снующую весь день по дому, пронизывали невидимые токи бытия. Мать, как Сивилла, всегда была в тревогах и в предчувствиях. Николай говорил:
– Мать только тревожится по пустякам…
Но точно одна мать понимала, что все в этом мире неверно, все мчится, как неутихающая буря, с вихрем темных несчастий и смертей, и, если бы ей дана была сила, она остановила бы страшный ход рока, все, чему промчаться неминуемо.
Одна мать в самом ничтожном, в самом мелком боролась с тем, что надвигалось на всех днем и ночью. Она изнемогала в борьбе, какой, впрочем, не замечал никто, и она сама.
После вечернего чая, около одиннадцати часов, когда мать стлала постель в кабинете, отец любил слушать ее разговоры о домашнем, как будто в ее простых словах могла быть отгадка того, что его тяготило.
В темном платье, не менявшемся годами, но все новом и ладном на ее худом теле, мать сидела на кожаном диване.
Из года в год повторялись те же слова, что надобно Паше новую шинель, вырос из старой, Ольге к Рождеству туфельки, мать называла их, как простые петербургские люди, баретками, что Алене пять рублей недоплачено, Вегенерша, говорят, за квартиру прибавит, в мелочной лавке много забрано, Пашка клопов, как будто, занес, надобно выводить скипидаром.
Отцу иногда казалось, что вот-вот она скажет настоящее, необъяснимое, но дрова, кухня, лавочники, картофель, провизия – все было не то.
А мать, позевывая, прикрывая рот продолговатой и красивой рукой, рассказывала о соседях. К студенту, который живет у Вегенерши, бегает одна, в горжеточке, модистка. Мать жалела ее, погибнет.
– Полно тебе, нашла кого жалеть, дур этаких.
Мать умолкала покорно. На его кожаном диване она уже отдохнула немного от вечной битвы, и ей было все равно. Она никогда с ним не спорила.
Отец знал, что сейчас она перекрестит его мелким крестиком, скажет: «Ну, батя, спи», и уйдет.
На диване сидела худенькая стареющая мать, какую он называл раньше Катюшей. Покорное и скромное вдовство сквозило в ней, вечное вдовство, проступающее к пятидесяти годам в каждой женщине, много тревожившейся и работавшей.
На худом лице матери проступал вечер. Ее волосы, зачесанные за уши, поседели на висках, и продолговатые руки, о которых он когда-то говорил: «Таких ручек, как у моей Катюши, ни у кого нет на свете», стали теперь жесткими от стирки, в продольных, темных морщинках, как у пожилых прачек.
От ее рук и от того, как она сидит, покорно позевывая, ему было еще приятнее, что их жизнь прошла.
– Ты бы, мать, себе платье, что ли, новое сшила, – говорил он, едва скрывая за обычной грубостью внезапную и виноватую нежность.
Это так удивляло ее, что она тихо смеялась, легонько хлопала в ладоши:
– Платье? Да что ты, отец, с ума спятил, что ли?! Или мне по театрам ходить?!
– А хотя бы в театры. Ну да ладно, как хочешь.
Много позже от всего детства и отцовского дома осталось у Пашки одно воспоминание, казавшееся ему необыкновенно значительным.
Это было воспоминание об осеннем вечере, в субботу.
В доме был особенно мирный час. В столовой горела лампа под желтым абажуром, от нее покоился на столе тихий круг света. Все двери из комнаты в комнату были отворены. В гостиной полутемно.
Брат Николай в серой тужурке лежал в гостиной на оттоманке, руки – под головой. Лицо у него было хорошим, нежным. Он слушал. За пианино Ольга пела романс о вечерней звезде, которая взошла и сияет. Голос у сестры был приятный, слегка глуховатый.
Отец совершенно тихо ходил по гостиной в своих сапожках, заложивши руки за спину. Пашке казалось, что самое значительное и хорошее не в том, что поет Ольга, он и не слышал слов, а в том, как бесшумной тенью, то попадая в полосу света, то исчезая, ходит отец.
Сам Пашка сидел в третьей комнате, материнской, дверь из зальцы была открыта.
Он сидел в потемках на узкой и плоской постели матери, за темной занавеской, куда спасался не раз от отцовских бурь из-за двоек в гимназическом дневнике. У матери после всенощной светилась за синим стеклышком лампада.
Он, пригретый под материнским платком, слушал пение и звон пианино.
Пашка думал, что таких вечеров прежде было как-то больше. Тогда мать с отцом ездили в Гостиный двор, за Неву, привозили целые груды пакетов, разные вкусные штуки, от матери, румяной, веселой, пахло морозом, а в прихожей, где было натоптано снегом, отец казался огромным, дымным, смеялся, и все его целовали. Раньше отец играл в гостиной на гитаре, и вспоминалось все это Пашке, как сон. Странно, что о том же думала, сидя с ним рядом, мать.
На дворе ходила мокрая вьюга, от ветра чуть дрожали темные окна, в печных вьюшках проносился свист. От непогоды за окнами особенно недвижным казался круг желтоватого света под лампой, угол шкафа, громадный, уходящий во тьму, поблескивающая изразцовая печь, ножки комода. Все вещи жилья, огромные, добрые, несдвигаемые, точно были замершими кусками вечности.
Нянька Алена вошла в столовую, как в церковь, бесшумная в своих катанках. Теперь Пашка услышал, как отец, баском, очень осторожно, вторит Ольге. Все было так необыкновенно хорошо, что Пашка повозился и шепнул матери:
– Отец-то.
Мать и Пашка одинаково называли Петра Семеновича отцом. Мать молча и весело покивала головой.
Отец пел с Ольгой про звезду и «Утес». То, что семья собралась у лампы, что он честный человек, делающий для своих все, домашняя тишина, круг света на столе и старые, двухаршинной толщины стены старого дома, даже не чующие мокрой непогоды, – все трогало в тот вечер Петра Семеновича. Слова Лермонтова об одиноком утесе показались ему нежными, как заря. Наступающая ночь, какую он чувствовал теперь в себе, умолкание вечера, самая смерть – все показалось ему полнотою покоя.
Он вошел, как тень, в материнскую, пошептал, чтобы не спугнуть пения Ольги:
– А вы почему в потемках?
Мать улыбнулась ему молча, счастливо. Отец увидел Пашку под ее платком, мягко потеребил ему волосы, сказал, садясь на постель:
– Ну ты, Аника-воин, пригрелся.
И это было так ласково, что мальчик поискал в темноте руку отца, крупную, добрую, с большими пальцами, полными теплоты жизни, и поцеловал ее с благодарным шепотом:
– Батенька…
В тот субботний вечер отец, мать, все у Маркушиных полудогадывались, что ни тьма, ни время, ни смерть не могут уничтожить что-то в этом стареющем отце и в этой простой матери, уже повторивших себя в детях, у кого тот же смех, грудные голоса, те же движения, материнская легкая походка, глаза. Точно явились они во тьме для того, чтобы являться всегда, точно эта семья, как и все эти странные существа, люди, несущие легкий свет, исчезают и возникают снова во тьме, как одно существо, – Человек, – для чего-то являющийся вечно.
Глава IV
В конце августа Петра Семеновича на извозчике привезли домой.
Он был с портфелем, в летнем пальто, сбившемся на спине горбом, в чиновничьей фуражке, надетой на голову до самых глаз, козырьком вбок. Бледная щека Петра Семеновича была в помазке пыли.
Его привез городовой и неизвестный человек в порыжевшем котелке. Неизвестный снял котелок и вытер рукавом мокрый от пота лоб. Лысый человек удивленно улыбался. Он был нетрезв.
Петра Семеновича подняли на Английской набережной. В его бумажнике была кредитка, красноватая десятирублевка, квитанция и черная паспортная книжка. Его посадили на извозчика и повезли домой. Он был иссера-бледен, глаза потемнели, остановились, а рот приоткрылся. На извозчике он помычал что-то и привалился к плечу городового.
По улицам после легкого дождя ходили прозрачные столбы света.
Мелькали вывески булочных, пивных, колбасных. Пролетка остановила на мгновение стайку смеющихся девушек, переходивших улицу и подумавших, вероятно, что везут в участок пьяного, потом красный трамвай, в мокром блеске, остановил извозчичью пролетку. Петр Семенович всего этого уже не видел.
У Маркушиных, недавно вернувшихся из Лужской деревни, никого не было дома. Николай с утра ушел на лекции, Ольга была у профессора пения, Пашка – в гимназии, а мать с нянькой Аленой – на Андреевском рынке, за провизией к обеду.
На дворе слесарь Кононов помог вынести Петра Семеновича из пролетки. Прибежала Аглая Сафонова в легком платке, худенькая, побледневшая от страха. Ее младшая сестра, Любочка, остроносая девочка с темными волосами, зачесанными за уши, пытливо следила, как дворник, городовой и другие люди несут Петра Семеновича неловко, но с охотным удовольствием, через двор, по булыжникам, к дворовому подъезду и как у Петра Семеновича мелко дрожат на груди руки. На дворе пахло сдобными булками.
Петр Семенович смотрел вверх, на квадрат синего неба, уже не видел неба, и глаза были как из стекла. На лестнице Аглая придержала ему фуражку на затылке, наклонилась:
– Петр Семенович.
Нетрезвый человек в котелке, по его носу в прожилках весело бежал пот, обернулся:
– Чего Петр Семенович, когда помирает…
Дворники открыли дверь в квартиру подобранным ключом, Петра Семеновича, как указала Аглая, уложили на кожаном диване, в кабинете. Под голову ему подсунули три подушки, отчего он неудобно скрючился, под затылком все была фуражка, а у слегка раздвинутых и как бы помертвевших ног – портфель. Он так и был в пальто.
Мать вернулась с рынка, поставила у дверей на площадке рыночный мешок, который Алена называла кошевкой. Кошевка была набита обычной снедью к обеду. Там были яблоки, свежо и кисловато пахнущая ранняя антоновка, кочаны капусты, красная морковь, ярая говядина, полтора фунта с голой белой костью. Говядина была обернута желтой грубой бумагой, просочившейся темной кровью.
Мать порылась в потертом черном кошелечке, уже не слыша, что ей говорит Аглая, дала гривенник дворнику и двугривенный городовому, который только что напился на кухне воды из-под крана и утирал русые усы ребром ладони.
Лицо матери стало необычайно тонким и замкнутым. Она была похожа на состарившую скромную прислугу.
Все, кто принес Петра Семеновича, начали выходить на лестницу, и тише всех, пошикивая на других, человек в котелке, привезший Маркушина. Позже бумажник Петра Семеновича с десятирублевкой так и не нашелся.
В кабинете мать убрала из-под головы отца лишние подушки, чиновничью фуражку. Она все делала быстро и бесшумно, точно уже давно была готова к тому, что отца привезут так, как онемевшего большого ребенка. Она легко стянула его мягкие сапоги с рыжеватыми голенищами. Она ни слова не говорила Аглае, только оглядывалась. Аглая понимала ее без слов, и легкие движения девушки были похожи на движения матери.
С усилием, от которого обе порозовели, они приподняли Петра Семеновича так, что можно было стащить с него пальто. Они опустили его боком, лицом к спинке дивана. Руки Петра Семеновича так же мелко дрожали, как на дворе, глаза теперь были закрыты. Темный сюртук сбился на его обширной спине и не слезал. Большими ножницами, какими когда-то кроила штанишки Пашке, мать очень быстро разрезала сюртук по спине вдоль и стала отстригать рукава неровными углами. Она вырывала из-под отца черные куски сукна. Аглая вынесла черную охапку, еще тепловатую от тела Петра Семеновича.
Отец лежал в белой рубахе, прикрытый до груди тонким шотландским пледом. Ворот рубахи на полной шее был откинут. Отец грузно высился на диване, и можно было видеть, какое у него белое тело, как могуча и красива его голова, остриженная коротко только позавчера, в субботу, когда он был в бане. Его руки перестали дрожать, он открыл глаза и узнал мать. Не шевеля губами, со страшным, вероятно, усилием, он покосил окаменевшим ртом, глухо простучал из его глубины неживой странный лай:
– Гау-габу-бау…
Отец смотрел на мать просиявшими глазами, он говорил, но мать слышала только из его глубины темный звук чужого существа, а отец говорил ей все, что не успел сказать раньше, или не подумал сказать, или забыл, и все, что он говорил, была одна жалобная просьба простить его.
Он просил простить его, и мать, едва касаясь губами его уха, заросшего седым пухом, отвечала быстро и ясно:
– Понимаю, понимаю.
Она не понимала вовсе, но она знала, что он говорит ей самое прекрасное, самое значительное, какое только может быть на свете. Она понимала, что он умирает, что раньше они жили не так, как надо было жить, что они жили равнодушно, как все, и не замечали чего-то самого главного друг в друге, в детях, кругом себя, но теперь, когда он только лает глухо и мелко дрожат его руки, она поняла, что они друг другу самые дорогие существа на свете и когда он умрет, весь свет станет для нее пустым и померкнет.
– Понимаю, – повторяла она на ухо, а по ее запавшим щекам бежали горячие слезы, прозрачные, она их не замечала.
Отец рассказывал ей, что хотел рассказать не раз, но как-то забывал, о своей матери, как он был совсем маленьким и еще был жив его старший брат, как его мать носила белый платочек, который повязывала по-простому, как отец стал за что-то топать на мать ногами, страшно кричать, а мать собрала узелок, тоже белый, и ушла из дома. Мать так больше и не вернулась, и все это казалось прежде невероятным, точно повиделось, чтобы мать ушла с узелком и не вернулась, но именно так все и было, и это было самым главным, что ему надо сказать.
Он затих. Они смотрели друг на друга, и то, что они понимали, было значительнее всего, что думала мать, и всего, что желал сказать отец.
Потом Алена, сипло дыша, бледная и бесшумная в своих катанках, привела доктора в черном сюртуке, с острой черной бородкой. Кажется, и перчатки были у доктора черные, только манишка и остренькое лицо белые.
К четырем часам, к чаю, вернулись Николай и Ольга. Ольга сразу зарыдала так громко, точно нарочно. Аглая поила ее водой из стакана.
Доктор уже ушел, в кабинете Петра Семеновича, за ширмой, невысокий скромный священник снимал через голову епитрахиль, едва шурша ею. В кабинете пахло ладаном и малиновым вареньем, которым Алена почему-то угощала с блюдца священника. Петр Семенович лежал тихо.
К самой темноте вернулся домой Пашка. В тот день он долго бродил по баркам на Неве, переходя с доски на доску, по сходням, покуда не дошел до середины реки, где просторно, свежо, а вода синяя и бездонная. На барке изморщенный старик-сторож в кумачовой рубахе и просторных портках подсел к нему и, свертывая непослушными пальцами газетный листок с махоркой, стал любопытствовать, на кого баринок учится. Пашка не знал, на кого он учится, и сказал наугад, что на доктора. Старый мужик отсоветовал учиться на доктора, потому что «в докторах проку мало».
После прогулки по баркам на набережной он решил для спора с самим собой пробежать без остановки по Среднему проспекту до угла, где булочная Филиппова. Пари с самим собою он выиграл и вернулся домой запыхавшийся и голодный.
Он сразу потерялся, точно обомлел от звонких рыданий Ольги, от чужих людей с вытянутыми лицами, бросил гимназическую фуражку и ранец посреди кухни, вошел в столовую.
Брат Николай, бледный и грустный, сказал вполголоса:
– Где ты пропадал? Отец умирает.
Пашка не понял, не поверил, что отец умирает, но стало вдруг холодно, точно он сразу озяб.
– Пойди же, умойся, – добавил Николай. Но Пашка по коридору очень тихо прошел в отцовский кабинет.
Он увидел голову отца на белой подушке. Это была удивительно красивая, сильная голова, с орлиным носом, слегка темным у ноздрей, с запавшими, строго закрытыми глазами. Никогда отец не был таким красивым. Он дышал ровно и спокойно. В кабинете был сумрак, но отцовское лицо светилось на подушке, вероятно, потому, что на стуле, у дивана, горела свеча. В воздухе было разлито благоухание малины.
Пашка точно впервые услышал (да он никогда и не слышал так отчетливо) звучный ход часов у отца на столе. Он подумал, что батя заснул, что все это не так страшно, что батя, без сомнения, поправится, и уже хотел уйти, но удивительно белой, незнакомой и непонятной показалась ему рука отца, замершая на пледе. Именно эта сухая, точно выточенная из кости рука, привлекла его к дивану.
Со страхом и ожиданием стал он вглядываться в лицо отца, покоящееся перед ним. Сначала лицо показалось ему незнакомым, потом и поджатая нижняя губа, скосившаяся вбок, щетинистый подбородок и продольная морщина на лбу, и брови с тремя седыми жесткими волосками – все показалось необыкновенно знакомым и огромным, невозвратимым, вечным.
Мать в черной шали подошла тихо. Пашка не ждал, дрогнул. Мать тронула его за руку горячей рукой, прошептала:
– Пашуня, батя-то наш…
Тогда он стал на колени у дивана и поцеловал непонятную руку отца. Она была едва тепловатая, и оттого, что она была такой непонятной, у него мелькнуло страшно, как в детстве: «Баба-Яга, Костяная Нога», и он затрясся и беззвучно заплакал.
На другое утро на площадке лестницы, в том углу, где мать оставила накануне кошевку, прислонили к стене желтую, глазетовую крышку недорогого гроба с парчовым крестом.
Через три дня у Маркушиных шла последняя панихида.
Стояли со свечами. От воскового огня и дыхания в столовой была нестерпимая духота, все чувствовали в духоте горький привкус тления. Ольга рыдала громко и падала на руки подруг. У окна бледно и нежно светилось лицо Николая. Заплаканная Аглая тихо оправляла ему свечу.
Смерть отца была первой смертью, какую видел Пашка. Отец как будто вышел в другую комнату и закрыл за собою дверь. Пашка ничего не понимал, что такое случилось, ему казалось, что все еще может перемениться, что батя не умер. Ему казалось, что батя притворился, нарочно лег в гроб в своем обширном черном сюртуке и старомодной праздничной манишке с черным галстуком. Под кисеей отблескивал лысый лоб, покрытый венчиком. Непонятные руки были сложены на груди, под кисеей, крест-накрест.
Когда запели «Надгробное рыдание», кто-то вскрикнул невнятно. Пашка, который все слышал и видел, хотя и заливался горячими слезами, подумал, что это нянька Алена.
Но закричала мать. Мать стояла худенькая, в черной шали, со свечой. У нее стали заметнее две широких седых пряди в черных волосах.
Она смолкла, и у нее не было больше ни слезинки на панихиде и на Смоленском кладбище, в шестом разряде, где в глинистую яму, полную мутной воды, опустили под глухую «Вечную память» Петра Семеновича, как опускали всех странных существ василеостровских и невасилеостровских обывателей, зачем-то обывающих землю.
Глава V
Отто Вегенер и Пашка Маркушин сидели на площадке лестницы, на подоконнике, и толковали о войне.
Отто Вегенер разросся, руки и ноги у него стали большие, он не знал, куда их девать. Шинель и казенные сапоги, впрочем, ладно были пригнаны на белобрысом долговязом юнкере.
Сначала Пашка, как и Вегенер, завел себе карту военных действий, расставлял флажки на булавках, потом надоело, булавки и флажки потерялись. Вегенер к тому же знал о войне все: куда пойдут, что возьмут, какая у кого артиллерия и вообще, что будет дальше. Пашка считал русских солдат лучше всех на свете, первыми героями. Вегенер соглашался, но добавлял, что немцы тоже хорошо дерутся. Это Пашку слегка обижало, и он думал о приятеле: «А все-таки немчура».
Лихорадка первых недель войны, когда Пашка бегал на вокзалы провожать уходящие эшелоны, орал до сипоты «ура» и покупал лубки про казака Крючкова, прошла.
В самом начале все весело торопилось, куда-то бежало, гремели военные оркестры, проносились со свистом красные вагоны с солдатами, что-то орущими, машущими руками, иногда с зелеными ветвями на шапках.
Так или почти так было и в Петербурге, и в Берлине, и в Париже. Всюду были уверены, что сильнее, славнее и лучше их солдат нет на свете, что победа несомненна, что все очень скоро кончится и конец будет какой-то особенно праздничным, с музыкой. В театрах и в ресторанах часто играли гимн. Всем нравилось подыматься с торжественным шумом.
Война уже вошла в медлительную жизнь людей, но о ней еще судили по старым журналам. Еще полуверилось, что война может быть теперь, в наше время. Где-нибудь на востоке, на случай усмирения в Китае, держали солдат в барашковых шапках для охраны границ, но никакой настоящей войны с Россией ни у кого не может быть. Россия больше и сильнее всех на свете, что из того, что потерпела поражение от японцев, и если кто ее тронет, она вся подымется, все миллионы ее православных серых героев. Никто не сомневался, что Россия победит, и больше было любопытства, чем тревоги, что же такое получится, если война уже началась. С войной все почувствовали в себе что-то героическое и рассуждали все, как заправские стратеги.
У Пашки, едва ли года два назад бросившего играть в оловянные солдатики, еще сохранились бумажные солдаты на глянцевых листах, длинные ряды французов в красных штанах, альпийские стрелки в зеленом, барсельеры в оперенных шляпах набекрень. Пашка так и думал, что солдаты в чужих армиях вроде его бумажных красавцев. Война для него, и для всех, была еще где-то далеко, сбоку, как-то около жизни, любопытная и смутно красивая, чем-то похожая на парад на Марсовом поле.
Маркушины жили в том же доме на Малом проспекте. После смерти отца в его письменном столе нашли государственную ренту, обернутую в кусок потертой, криво разрезанной замши. Мать стала отпускать домашние обеды. От этого в старой квартире повеселело. Правда, теперь всюду пахло дешевым жареным маслом, борщом, картошкой на сале, в столовой долго сидели и курили незнакомые студенты, барышни, офицер с бледным, немного лошадиным лицом, но кабинет отца и комната матери оставались нетронутыми.
Двери туда были закрыты, чтобы не доходил чад и табачный дым. В кабинете был тот же воздух, какой при отце, та же тишина, и часы звучно тикали на столе, точно отец ходил здесь в своих татарских мягких сапожках. На его столе Пашка готовил уроки, осторожно отодвигая тяжелую отцовскую пепельницу и медную чернильницу. Мать иногда приходила со счетом:
– Посчитай, Пашенька, сколько тут будет.
Он, хотя и сердился, что помешали, но считал.
После смерти отца мать как-то помолодела. Она стала седая и легкая. Весь день она была в хлопотах. Столовники, кухня, обеды, ссоры с зеленщиками и мясниками, Ольгины платья, сапоги, рубашки Николая и Паши, деньги, счета, разбирая которые надо было надевать очки и писать неверной рукой дрожащие длинные цифры, – от всего этого мать и помолодела. Она еще неутомимее вела лютый бой за домашних. Только покойника она звала не батей, как при жизни, а с уважением – Петром Семеновичем. Она еще говорила о нем няньке или чиновнику, у которого получала пенсию, или жильцам, кто поминал его, и плакала легонько. Такие короткие, мгновенные слезы стали для нее привычными, не печальными.
Николай был груб с ней. Мать принимала это с такой же кротостью, как от отца. Она не обижалась и на резкость Ольги. Мать понимала, что всех их: Николая, Ольгу, Пашуню – надо куда-то тащить, помогать им выходить в люди. Она думала, что все они образованные, учатся, Николай так много знает, просто ученый, и, конечно, им надо вовремя приготовить сапоги, заштопать носки или рубашку, подать обед.
Одного Пашку задевало, как Николай и Ольга небрежно говорят с матерью. Он понимал, что мать может каждый из них обидеть, а она не ответит.
Как-то за чаем, когда Николай что-то с равнодушной грубостью сказал ей, он бросил брату: «Какая свинья!» – и вышел из столовой.
Николай с едким презрением стал говорить матери:
– Это вы во всем виноваты…
Он называл мать на «вы»:
– Воспитали дрянь эдакую, психопата.
Мать смущенно обещала, что Пашка извинится.