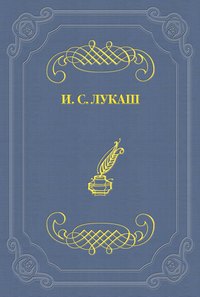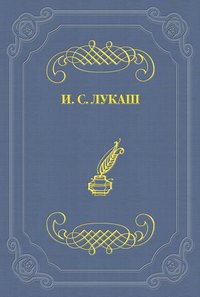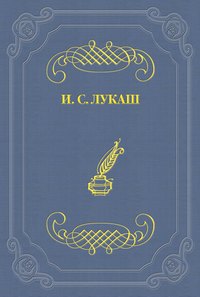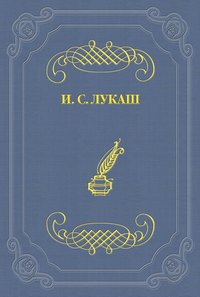полная версия
полная версияБедная любовь Мусоргского

Иван Лукаш
Бедная любовь Мусоргского
Пожелтевшая записка
Пожелтевшая записка 1883 года, найденная в бумагах петербургского художника с приколотой газетной заметкой об одной из «арфянок», уличных певиц, бродивших в те времена по питерским трактирам, – вот что в основе этой книги.
Это не описание жизни Мусоргского, а роман о нем, – предание, легенда, – но легенда, освещающая, может быть, тайну его странной и страшной жизни.
Иван Лукаш
Госпиталь
Молодой офицер в расстегнутом темном мундире, с полотенцем, перекинутым на руку, тихо шел коридором военного госпиталя.
Ночное молчание, полное тупого напряжения, горячечных бормотаний за белыми дверьми, затаившаяся госпитальная тишина, в любую минуту готовая прорваться воплем страдания, делала походку молодого офицера особенно осторожной и чуткой.
Он двигался неслышно по плитам коридора, точно желал стать бесплотным в этой темноте, накаленной страданием.
Никаких случайностей – «происшествий» на казенном языке – ночное дежурство не обещало, и офицер, умывшись, собирался устроиться на ночлег в дежурной комнате на жестком и плоском, как черный скелет, диване.
Он вошел в дежурную без шума, прикрыл за собою высокие двери. В комнате горел газовый рожок. Фуражка и сабля висели на спинке промятого кресла красного дерева, там же была брошена гвардейская светлая шинель.
Другой газовый рожок горел у смутного, поцарапанного зеркала. Перед зеркалом офицер стал оправлять белокурые волосы, влажные от мытья, молодым, сильным движением он откидывал вьющиеся пряди со лба.
При туманном свете рожка ему странно понравилось в зеркале его лицо, хотя обычно, почитая себя уродом, рожей, он заглядывал в зеркало только по крайней необходимости.
Теперь лицо показалось ему как бы чужим, нежным и удивительно привлекательным.
Это было приятное и свежее русское лицо, без резких черт, слегка туманное, такое лицо, где нет запоминающихся подробностей, но все необыкновенно привлекательно мягкой простотой. Хорош был широкий, светлый лоб, а лучше всего было сочетание серых глаз с белокурой головой.
Он легонько насвистывал, разглядывая себя с любопытством, и его серые глаза внимательно и строго так следили из зеркальной мути, как бы намечался перед ним в глубине иной человек, не он, а другое непонятное и странное существо в темном офицерском мундире, с круглыми эполетами в мерцающей позолоте, с лицом таинственным и прекрасным.
Вдруг кто-то покашлял за спиной.
Офицер неприятно поежился и обернулся с неприязнью, точно был застигнут за таким сокровенным, чего не должен подсматривать никто.
На подоконнике полукруглого казенного окна сидел тот, кого офицер не заметил, когда вошел в дежурную. Это был молодой человек в сюртуке военного медика. Закинувши ногу на ногу, он покачивал ногой, обтянутой узкой штаниной на штрипке.
– Извините, что я покашлял. Я нарочно, чтобы обратить внимание, – сказал незнакомец, потирая маленькие белые руки. – Но не правда ли, вы насвистывали Шуберта?
– Шуберта, – подтвердил офицер с небрежной досадой.
– Опус 77, не правда ли, номер пятый?
– Пятый.
– Я очень люблю эту фразу у Шуберта. Только вы там, в переходике, извините, подвираете.
– Я не подвираю, а нарочно. Ищу другого перехода.
– Как так?
– А так. Ведь Шуберт что сделал в пятом номере? Он услышал на улице, где-нибудь в подворотне, венскую гармонику, и какой-то неуловимый ее переход, неожиданная волна дыхания, дали ему, можно сказать, тему для целой симфонии в две строки.
– Очень хорошо-с, симфония в две строки…
При этом медик спрыгнул с подоконника, четко постучал каблучками.
Это был сухонький молодой человек с бледным лицом и остреньким носом, черноволосый, с белыми ручками, которые он быстро, как-то по-кошачьи, потирал. На нем был опрятный сюртук, его мягкие сапожки были начищены, блестела серебряная цепочка часов с ключиком на его черном глухом жилете, с крошечными пуговками. «Немчик, поди», – подумал офицер.
– Разрешите представиться, – вежливо сказал медик. – Дежурный лекарь Бородин, Александр Порфирьевич Бородин.
– А я думал, вы из немцев, – усмехнулся офицер, подавая ему руку. – Я тоже дежурный по госпиталю, гвардии Преображенского Мусоргский Модест, по батюшке Петрович.
– Модест, редкое имя… По-французски – скромный. Маленькая рука медика заледенила на мгновение большую теплую руку Мусоргского.
Неожиданный ночной компанион не понравился ему. Мусоргский думал, что умеет чувствовать, определять людей с первого взгляда. Военный лекарь, с его опрятным холодком, показался сухарем и педантом.
– Понимаете, – сказал Мусоргский небрежно, – я не подвираю, а ищу в музыкальной строке Шуберта нашего русского перехода.
– Но стоит ли немецкую тему ломать на русский лад?
– Стоит. Тоска в ней по какой-то святыне, печаль необыкновенная, вздох этот для всех людей одинаков, что русские, что немцы…
– Очень хорошо. Я согласен, вы любите музыку.
– Люблю. И мне обидно, когда о ней толкуют люди… Он хотел сказать с сердцем «люди, ни черта в ней не смыслящие», но спохватился:
– … без достаточных оснований. Маленький медик тонко улыбнулся:
– Я вас понимаю. Я тоже люблю музыку. И Шуберта. Я его очень знаю. Вы прекрасно сказали, что его «Своеобразные танцы», не правда ли, так можно перевести его заметки из записной книжки, истинные симфонии в две строки… И потом, видите ли, я сам…
Голос медика застенчиво осекся, стал неуверенным, он со смущением потер руки:
– Я тоже пишу музыку.
Мусоргский посмотрел на него сбоку, с тем же смущением потер руки и сказал с застенчивостью:
– Вот случай, какое совпадение… Кто бы мог думать: какой-то офицер и, простите, какой-то медик…
– Пожалуйста, пожалуйста, – лекарь весело закивал головой.
– Встретятся на ночном дежурстве в солдатском госпитале, и оба окажутся музыкантами. Вообще это так редко, так не принято говорить о музыке, гонимо, смешно… Кому у нас надобна музыка… У нас музыка – только барская блажь… Но знаете, ведь я тоже музыкой грешен: пишу…
После нечаянного взаимного признания молодые люди мгновение говорили вместе. Откровенность сблизила их, уже не дежурный лекарь, черноволосый, в опрятном военном сюртучке, и не дежурный офицер с влажной белокурой головой, чужие друг другу, стояли у замерзшего казенного окна, а два близких человека, – как два заговорщика, – понимающие все с полуслова.
Не особенно хорошо, слушая друг друга, они говорили о Шуберте и его «Немецких танцах», какие недавно оба читали. Потом о «Рождественских рассказах» Шумана, с вечной встречей двух их героев: Воина и Мечтателя, причем Мусоргский весело подумал: «Я, конечно, Воин, а этот лекарек, привидение из потемок, конечно, Мечтатель»; они поспорили о Бетховене, не поняли друг друга, что именно хотели сказать, и снова о глубокой и мягкой гармонии Шуберта.
Со стороны могло казаться, что у огромного окна, за которым сияла морозная ночь, стоят, размахивая руками в торопливом бреду, два умалишенных. Они так много хотели сказать, особенно Мусоргский, что все их слова были невнятны и они сами не понимали ясно, что именно говорят. В путаной, горячей речи они точно жаждали опередить самих себя, точно хотели родить то духовное существо, какое только еще брезжило в них, какое еще будет когда-нибудь или не будет вовсе.
Лицо Мусоргского горело. Бородин иногда смеялся нервным смешком с прозрачным прохладным звуком. Мусоргский с восхищением смотрел на маленького медика, уже считал его замечательнейшим музыкантом, тончайшим человеком.
– Посмотрите, какая ночь, – в мгновение молчания сказал Бородин. – Я до вас сидел у окна и смотрел. Только в Петербурге бывают, по-моему, такие ночи… Какое морозное величие, бесконечное холодное сияние, и этот зеленоватый лунный дым, проходящий, как стада видений…
Они умолкли.
За госпитальным двором тянулись низкие корпуса казарм, на крышах светился снег. Как будто в звучащей немоте застыла колоннада, фронтон, а дальше, над белым океаном крыш, где бродил дым стужи, страшно и тайно сияло зеленоватое ледяное небо.
– Замечательно, – сказал Мусоргский. – Вот ночь. Вся звучит. О чем же, о чем непонятный язык этой обмерзшей немоты, величия?
– Не знаю, но тоже слышу, – прошептал Бородин. – И, кажется, вот-вот догадаюсь, о чем… Никогда и никому не догадаться… Это и есть музыка.
– Музыка? Я, доктор, во всем, всегда слышу музыку, и мне кажется, что со мной должно случиться что-то необыкновенно прекрасное… И в этой ночи, и в нас двоих, и как сияет снег, и что у вас там в палате умирающий солдат стонет, – все это, весь мир, люди, все живое и мертвое – одна музыка… И если бы узнать ее тайное значение…
– Зачем знать, все прекрасно и так… Однако какой у вас приподнятый поэтический тон.
Маленький медик позвенел серебряной цепочкой часов, щелкнул крышкой:
– Вот видите, вашей тирадой о солдате вы напомнили мне долг дежурного лекаря в военном госпитале. Мне пора на ночной обход.
– Я с вами…
Мусоргский с пылающим лицом желал в ребяческом порыве что-то высказать лекарю, чего толком не знал сам.
– Извольте, пойдем, сначала к горячечным, потом к венерикам, – ответил Бородин, застегивая все медные пуговицы медицинского сюртука.
Во втором военном сухопутном госпитале, как и во всех госпиталях, стены поверху были выбелены, а понизу закрашены серой краской. Стекла окон внизу тоже были забелены.
В палатах, где на железных койках под темными одеялами лежали люди, было только два угрюмых цвета – темно-серый и белесоватый, точно они были цветами самой смерти.
В той палате, куда вошел с медиком Мусоргский, в углу была растоплена громадная кафельная печь, на железной полосе у печи дрожали красноватые отсветы. В палате, в духоте, пахло нагретым железом и больным человеческим телом, сухо и горько. В другом конце, за рядами коек, горел у медицинского шкафа над столом, фонарь, тоже разогретый, душный.
Одни больные лежали вытянувшись, с головами под суровыми холщовыми простынями. Они показались Мусоргскому покойниками: они спали. У других были развязаны на груди тесемки солдатских посконных рубах, они быстро стонали, бредили.
Мусоргский невольно остановился у койки рослого солдата. Его исхудавшие, большие, темные руки лежали на белой простыне, запавшие глаза были крепко зажаты. Это был костлявый пожилой солдат с лысеющим лбом, красивый, горбоносый, похожий на императора Николая Павловича. Пожилой солдат твердил, не умолкая, затаенно, с мягкой укоризной:
– Эх, Маша, как же так, Маша…
Только это было внятным в его раскаленных, непрерывных бормотаниях.
В самом конце палаты с койки приподнялся, внезапно встрепенувшись, молодой солдат, сказал отчетливо, с какой-то жалобной торопливостью:
– Здравия желаю, ваше высокоблагородие.
Мусоргский дрогнул. Глаза молодого жарко светились, темные волосы были спутаны, влажны.
– Он не вам, он бредит, – прошептал медик.
Они подошли к столу.
Лазаретный служитель в шинели, накинутой на холщовую рубаху, в подштанниках, вскочил со скамьи под фонарем.
У служителя было нерусское сухое лицо, мохнатые седые брови, небритый подбородок. По его цокающему шепоту Мусоргский понял, что старик из поляков. От служителя тяжело несло старческой кислятиной, теплой водкой и табаком. Бородин, нагнувшись, начал что-то помечать пером на листках, Мусоргский с нескрываемым страхом, недоумением обводил взглядом палату, стол с ободранной промокательной бумагой в чернильных кляксах, большой календарь на серой стене «генварь 1856 года», черноволосую склоненную голову медика, спину старика-служителя, фонарь, – и все казалось ему значительным, необыкновенным.
То, что он говорил горячо и плавно о музыке, в чем убеждал медика и себя, теперь казалось Мусоргскому ненужным и стыдным. Ничтожным стало все перед этими железными койками, серыми стенами, коротким, душным, едва слышным человеческим дыханием, перед разогретой, нещадной, железной смертью.
Молодой офицер побледнел. Ему стало тошно в натопленной палате.
Когда они шли назад между коек, костлявый солдат, похожий на императора Николая Первого, сцепивши темные руки на простыне, все бормотал затаенно и укоризненно:
– Маша, эх, Маша, чего же ты, Маша…
– Кандидат, – прошептал Бородин, кивнувши на костлявого.
Мусоргский не понял:
– Кандидат?
– Да. В мертвецкую.
Теперь Мусоргскому казалось, что в палате слышен один тугой звук, как будто натянутой, горячей струны. Струна вибрировала невыносимо.
В коридоре, где было прохладнее, Бородин что-то спросил об оперном театре, Мусоргский не ответил.
С молодой впечатлительностью он думал теперь, что палата, откуда они только что вышли, и есть настоящее, а не их ничтожная болтовня.
Мусоргскому еще не было двадцати. После закрытого дворянского пансиона и школы гвардейских прапорщиков он только что вышел в полк офицером. Молодой барич, сын помещика, он был, как дорогой цветок, выращенный в теплице. И как в тепличном цветке, в нем было что-то нежное, слабое, чему не выдержать первой же непогоды. Приветливое изящество и французская речь, с особой парижской картавостью, были, кажется, самым главным в его воспитании: прежде всего быть человеком своего круга, гвардейским офицером, хотя на это и недостает денег, уметь носить мундир и ловко и тонко обращаться с людьми, особенно с женщинами в гостиных, а потом уже, где-то на втором плане, все другое, неважное: музыка, какой он увлекся еще в дворянском пансионе, весь этот странный человеческий мир и сама его человеческая душа.
Чувство жалости и вины, глубокое, захватывающее, всегда томило Мусоргского перед темным простонародьем, солдатами, каким-нибудь старичком-извозчиком, измерзшим на своих санках, перед пропившимися нищими в рваных шинелях, коченеющими под дождем, мокрым снегом, переступающими с ноги на ногу в размокших башмаках, перед шарманщиком или мальчишкой из мелочной лавки с отмороженными руками и двумя синими пятаками, выеденными на щеках морозом, перед всеми чужими, непонятными, темными людьми с улицы, жильцами углов и подвалов, перед теми, кто копошился, как-то жил, любил, бедствовал, радовался, спивался или скопидомничал, перед той человеческой чернью, какую он, Мусоргский, не знал, трудно понимал, в душе всегда страшился и называл, как у Иова, людьми без имени, отребьем земли.
Он чувствовал себя виноватым перед ними за то, что он не такой, что у него пусть бедная, но все же теплая квартирка на Обводном, денщик Анисим, что вот он офицер, барин, а другой человек, совершенно такой же, как и он, и лучше, и достойнее его, канючит у него копейку, поджимая замерзшие ноги в опорках.
Этого он не понимал и не принимал в жизни, это оскорбляло, пугало его, точно он один был виноват перед отверженными за всю жизнь, несправедливую, не поддающуюся им.
Ему стало нестерпимо стыдно за всех: за Бога и за Россию, за царя, за блестящих и парадных господ, за себя и за маленького медика, за то, что они только что глупо болтали о музыке, – стыдно стало, что никто никогда уже не узнает, какая такая душа чего-то ждала и о чем-то тосковала у того красивого гренадера, великана парадов, звенящей военной куклы в медном кивере и белых лосинах, умирающего на лазаретной койке с горячим бредом о какой-то Маше.
Бородин с удивлением посматривал на собеседника, ставшего вдруг рассеянным и подавленным. К венерикам Мусоргский не пошел. В дежурной после обхода медик справился об общих петербургских знакомых. Он назвал фамилию Орфанти, куда был приглашен на музыкальный журфикс во вторник. Тогда только Мусоргский оживился. Оба они устраивались на плоских, как камень, казенных диванах. От имени Орфанти сердце Мусоргского стукнуло тревожно, он покраснел в потемках.
Откинувши шинель, которой было прикрылся, он сел на диван и сказал в темноту:
– Вы знакомы с Орфанти?
– Намедни нас познакомили.
– С Елизаветой Альбертовной?
– Нет, покуда только с ее батюшкой, Альбертом Ивановичем… Говорят, музыкальное семейство. Музицируют.
– Да, музицируют, – ответил Мусоргский, снова ложась и накрываясь шинелью. Но от имени Лизы заныло сердце.
Бородин вдруг приятно, прохладно посмеялся в темноте.
– Вы чего? – тихо позвал Мусоргский.
– Этот Орфанти из итальянцев. У него голова старого гениального артиста, а торгует, кажется, всю жизнь салом и пенькой. И как это скучно, серо выходит по-русски: Альберт Иванович. Нелепо. А по-итальянски звучит, как литавры: Альбертино Джиованни Орфанти.
Медик как бы прочел в потемках мысли Мусоргского. Отчество Лизы, именно отчество, всегда как-то томило его, казалось нелепым и холодно-смешным: точно Алебастровна.
– Вы правы, – минут через десять сказал Мусоргский, приподнимаясь на локте.
Медик не ответил, может быть, спал.
Лиза
Конечно, о музыке думают меньше всего, она самое неважное, что есть в настоящей жизни. Что может быть нелепее, чем музыкант, не военный трубач, капельмейстер или тапер для танцев, а музыкант, сочиняющий что-то.
Все это верно. И все-таки музыка гнездится всюду. В каждой человеческой душе всегда поет что-то, зовет, и как часто в домах сверху донизу смутно роится и звенит музыка: на чердаке – тромбонист, где-то – рояль, пониже – худосочный мальчишка в матроске с безнадежными, как осеннее небо, экзерсисами на скрипке. В подвале поет прачка, в дворницкой дворник пиликает на гармошке.
Он пиликает в сумерках часами, невыносимо, всего две-три ноты, но именно в этом и есть подлинная музыка, музыканту так и надо отдаваться до самозабвения, до тихого исступления, раз уловленному ритму.
Мусоргский на проспекте покрепче закутался в шинель, пробормотал с усмешкой:
– Здорово, до дворницкой добрался…
Зимний вечер, стылый и темный, был неуютен. В тумане тяжело, точно загнанные, дышали извозчичьи лошади. Со взморья ледяными порывами поднялся низкий северный ветер. Звонили к вечерне, ветер разносил пустынный, как бы стынущий звон.
Музыка гнездилась, как думал Мусоргский, и в богатой квартире владельца экспортной конторы на Васильевском острове, Альберта Ивановича Орфанти.
Орфанти был не итальянцем, а южным австрийцем. Его крупная голова, седая, пышноволосая, была, можно сказать, величественна, внушали уважение его белые баки и холеные крупные руки, перебиравшие на бархатном жилете брелоки и печатки золотой цепочки. По виду он был артист и министр вместе, на деле же разбогатевший иностранный негоциант. Говорил он с немного сладким акцентом.
В его дочери смешалась русская, австрийская и, может быть, итальянская кровь, и такое сочетание создало существо удивительной красоты.
Эта девушка во всех движениях, в том, как наклоняла голову, как садилась, распуская с приятным тихим шумом шелковый кринолин, как шла, как смотрела спокойно и чисто глазами, полными света, напоминала Мусоргскому Мадонну. Он ее так и называл «Мадонна Орфанти». Нечто холодно-бесстрастное, глубоко-затаенное, утихшее было в красоте Лизы. На ее девичьей груди дрожал изумрудный католический крестик.
Мусоргский думал, что любит Елизавету Альбертовну безумно и навеки. Уже несколько недель он думал так с наивным восхищением.
Но иногда шевелилась в нем недоверчивая тоска. Иногда ему казалось, что он только убеждает себя, что любит Елизавету Альбертовну, а по-настоящему все холодно в нем, немо, и тягостную скуку чувствует он около этой девушки.
Ее спокойные движения, сияющие глаза, и то, что ей нравятся музыканты, каких недолюбливал он, блестящие и шумные итальянцы, вкрадчивый Шопен или Лист, похожий на миллионы разбитых осколков, на стекляшки с их бездушными сверканиями, – иногда все казалось ему в Лизе равнодушной красотой мраморной и скучной Мадонны.
Но кроме такого Листа, такого Шопена, – концертных, – как он иронически называл их, был Лист си-минорной сонаты, оратории Святой Елизаветы, и был Шопен баллад. И это было так же прекрасно, как инвенции Баха, как могущественное звучание токкаты или фантастическая симфония Берлиоза. «Это он сам, – думал Мусоргский, – такой бездарный, у него такая глухая, смутная судьба, что он не слышит в Лизе Орфанти музыку Святой Елизаветы…»
Сомнения мучили Мусоргского, он чувствовал себя несчастным и негодяем, особенно когда приходилось вежливо поддакивать Альберту Ивановичу, слушая его вздорные, самоуверенные рассуждения о театре, композиторах, Парижской опере.
Орфанти, перебирая великолепной рукой золотые брелоки на жилете, говорил действительно вздор. Он завел в доме музыку и вечера с музыкантами по одному уважению к памяти покойной жены, русской, Марии Владимировны.
Орфанти был занят коммерческими делами, вывозом пеньки и льна, кораблями, он всегда был озабочен тем, чтобы в его доме все было на самую лучшую европейскую ногу, сыто и тепло, покойно, удобно, красиво, чтобы дочь могла выезжать каждый год за границу, чтобы его дочерью могли любоваться такие же сдержанные и полные достоинства иностранные купцы, как он, а кроме того, – единственно настоящего и единственно важного в жизни, – он не прочь был раз в неделю, с хорошей сигарой, послушать игру Лизхен, конечно, необыкновенную, конечно, замечательную, и заодно всех этих молодых русских господ, бедняков-медиков, мнящих себя великими музыкантами. Такие же вечера с музыкой, как был уверен Орфанти, устраивала бы Мария Владимировна. Когда-то добродушный Альберт Иванович в потемках, из глубины удобного кресла, забывши о сигаре, на которой наслоился ворох душистого тлеющего пепла, любовался женой. Она чаще всего играла Бетховена, точно молилась. Так же, из глубины кресла, с сигарой между красивыми крупными пальцами, слушал теперь Альберт Иванович игру дочери.
Мусоргскому иногда казалось, что в неторопливых и великолепных движениях Альберта Ивановича есть к нему равнодушное презрение и презрительное подозрение. Как будто богатый коммерсант уже оценил Мусоргского, что вот-де молодой офицеришка, петербургская голь из школы гвардейских прапорщиков, подбирается к его Лизхен, чтобы устроиться на ее денежках и бездельничать со своей музыкой.
Мусоргского это мучило, бесило, но больше всего мучили Мусоргского тягостные сомнения в любви к Лизе.
Точно холодное пятно тумана застилало душу. А вдруг он не любит, а только рассуждает о любви, так же бездарно и бессильно, как не живет по-настоящему, а только рассуждает о жизни, истине, музыке. На деле, может быть, все так и есть, как подозревает ее величавый папаша; петербургский офицеришка, подбитый ветром, просто хочет выбраться на денежки Орфанти в сытое, любующееся собой довольство.
«А может, я и правда самый ничтожный, самый подлый подлец, какой только есть на свете…»
С растерянной улыбкой Мусоргский даже остановился на мгновение. Нет, он любит Лизу, как ни один человек на свете не любил девушку, и он создаст для нее прекрасную жизнь, необыкновенную.
Правда, вот только в двух комнатах на Обводном канале, на заднем дворе, с одной черной лестницей, с Елизаветой Альбертовной жить нельзя никак. Надо будет, стало быть, искать модную квартиру, потом прислугу, чего доброго, этакого лакея в белых перчатках, обстановку.
От самых слов «квартира», «обстановка», «прислуга» ему делалось неловко и скучно, точно он взваливал на себя пыльную тяжесть. И потом, чего он рассуждает, чего копается в душе, ведь они толком слова не сказали друг другу о своих чувствах. Верно, не сказали, но все равно он чувствует, что кругом все уже почитают их чем-то связанными, смотрят на них так, точно между ними какая-то тайна или что-то такое не вовсе ловкое, о чем лучше до поры до времени помолчать.
А виновата во всем Людмила Ивановна Шестакова.
Младшая сестра Глинки, Людмила Ивановна, пожилая, вечно в темной турецкой шали и шелковой лиловой кофточке со стеклянными пуговками, казалась ему светящейся живой частицей самого Глинки, прекрасного музыканта, трогательного и гармонического. Даже в самом имени Глинки было что-то трогательное, как «Иже херувимская» к концу обедни.
Людмила Ивановна, ласковая, немного глуховатая, с молочно-голубыми глазами, какие, вероятно, были и у ее брата, с крошечными, бескровно-белыми и робкими руками в голубых жилках, тоже, вероятно, как у брата, была для молодого Преображенского офицера, помешанного на музыке, как бы живой святыней.
Это Людмила Ивановна ввела его в дом Орфанти, это она со своими стеклярусами и турецкими шалями, как самая обыкновенная мещанская сваха с Песков, помогала их игре в четыре руки при свечах, оставляя их вдвоем в гостиной, именно она создала вокруг него и Лизы воздух тайны, чего-то скрытого до поры и неловкого.
Продрогший Мусоргский шел уже по Василеостровскому проспекту. Мерцали кое-где потускневшие от стужи фонари.