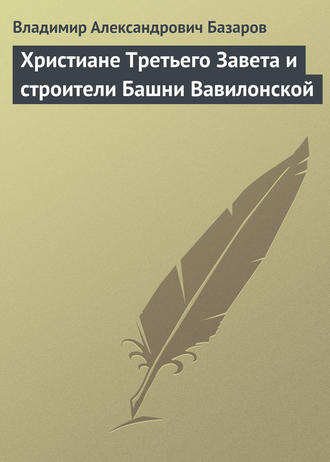 полная версия
полная версияХристиане Третьего Завета и строители Башни Вавилонской
А «последний венец» небесного рая для г-на Мережковского? В чем он заключается? Разве не в том же?
В царстве победоносных Чичиковых пытливость ума засыпает в спокойном довольстве достигнутыми «приобретениями»: все уже известно, все уже добыто и больше не к чему стремиться. Царство это пошло и скучно, но все же в нем есть хоть какая-нибудь сознательная жизнь. Не нужны и невозможны новые откровения, но для поддержания «муравейника» необходимо целесообразно применять к делу старые истины, пользоваться «табличкой логарифмов», – а это требует известных усилий, известного напряжения и, так или иначе, поддерживает слабо теплящийся огонек сознания.
В тысячелетнем царстве неохристиан угасает эта последняя искра человеческого. Тут даже для использования накопленных приобретений не приходится тратить никаких сил, ибо все делается «само собою», явления природы совершаются по указу воли человеческой. Если «вавилонская башня» – идеал Чичикова, то хилиастическое блаженство – идеал Пацюка, который хочет, чтобы вареники сами прыгали в сметану и лезли ему в рот. И неужели же Пацюк по духу своему противоположен Чичикову, отделен от него целой бездной, как агнец от зверя? Не есть ли он, наоборот, лишь дальнейшее развитие Чичикова: та же самая «пошлость» успокоения и довольства, но лишь доведенная до своего логического конца, до абсолюта или – что то же – до абсурда?
II
Я понимаю, конечно, что все эти соображения, несмотря на их очевидную правильность – и именно в силу их слишком большой очевидности – не могут произвести никакого впечатления на человека, искренно взыскующего апофеоза. Разве можно, скажет такой человек, оценивать божественное царство абсолютной гармонии с точки зрения позитивного «эвклидовского» разума? Тут необходимо постигать или, по крайней мере, предчувствовать «четвертое измерение»… То, что представляется абсурдом эвклидовскому разуму, есть высшая истина в логосе, и т. д., и т. п. – К счастью, однако, я могу опереться в данном случае на авторитет разума, «многомерность» которого признана всеми современными мистиками, а хилиастами в особенности, на авторитет самого Достоевского.
Достоевский является излюбленным пророком христиан третьего завета. На откровениях Достоевского, в гораздо большей степени, чем на откровении Иоанна, «сына Громова», базируется учение Мережковского. И тем не менее Достоевский не был хилиастом, он остановился где-то на полдороге между историческим христианством и тысячелетним царством.
Если Достоевский думал о втором пришествии, – пишет г-н Мережковский, – то все-таки он больше думал о первом, чем о втором; больше думал о царстве Сына, чем о царстве Духа; больше верил в Того, кто был и есть, чем в Того, кто был, есть и будет; то, что люди уже «вместили», заслоняло для Достоевского то, что они еще «теперь не могут вместить»[8].
Почему же сам-то Достоевский не «вместил» окончательной истины? Потому ли, что мысль его была недостаточно смела и последовательна? Или потому, что сердце его было слабо, не совсем еще освободилось от соблазнов антихристовых? Или же, наконец, он просто боялся соблазнить «малых сих», не способных еще вместить откровение Духа? Мережковский указывает и на ту, и на другую, и на третью причину, но не видит, или не хочет видеть, что Достоевский вполне сознательно отвергал «последнюю гармонию», хотя, конечно, в то же время жестоко мучился тем, что не может принять ее.
Каким-то довременным назначением, – рассказывает черт Ивану Карамазову, – я определен «отрицать», между тем, я искренно добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать… Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны»… Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу, скрепя сердце, чтобы были происшествия… Страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое бы было в ней удовольствие; все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато.
Итак «осанна», «бесконечный молебен» тысячелетнего царства – в основе своей та же тоска безысходного «благоразумия», как и вавилонская башня: спору нет, «оно свято», но «скучновато». Правда, это говорит не сам Достоевский, а только Карамазовский черт, воплощение «самых глупых и пошлых» мыслей Ивана Карамазова. Но недаром же эти «пошлые» и «глупые» мысли так назойливо лезут в голову Ивана Карамазова в самый критический момент его жизни, недаром они так мучат и сверлят его душу, недаром он ничего не в состоянии им противопоставить, кроме ругательств!
Даже г-н Мережковский, столь плененный красотою «осанны», чувствует, что тут не одна только пошлость. Он цитирует следующую, еще более характерную тираду черта:
Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило на небеса, неся на персях своих душу одесную распятого разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих «осанна», и громовой вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. И вот, клянусь всем, что есть на свете, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми «осанна». Уже слетало, уже рвалось из груди…
Но здравый смысл, – о, самое несчастное свойство моей природы, – удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, подумал я в эту минуту, что же бы вышло после моей-то «осанны»? Тотчас бы угасло все на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я должен был задавить в себе хороший порыв и остаться при пакостях…
Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, рявкну «осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус, и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему… Но пока это не произойдет, – пока не открыт секрет, для меня существуют две правды, одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище…
Г-н Мережковский находит, что под «кажущейся» пошлостью, под «прозрачной корой пошлости и насмешки мысль углубляется здесь до нуменальной бездны».
Сам «великий умный Дух пустыни», светоносящий, мог ли бы сказать Ивану что-либо страшнее, неожиданнее, чем эти слова о двух существующих, вечно соединяемых и несоединимых правдах?..
От соприкосновения, столкновения «двух правд» родился огонь, раскаливший горнило сомнения, через которое прошла «осанна» и самого Достоевского[9].
В том-то и дело, что «осанна» самого Достоевского не «прошла сквозь» горнило двух правд, а безвозвратно сгорела в этом горниле.
До сих пор мы имели дело лишь с чертом, духом лжи и небытия. Послушаем теперь, что говорит о райском блаженстве и адских мучениях старец Зосима, один из тех одиноких праведников, которыми, по словам Достоевского, держится мир.
Отцы и учители, мыслю: «что есть ад?» Рассуждаю так: страдание о том, что нельзя уже более любить. Раз в бесконечном бытии, не измеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: «я есмь и люблю». Раз, только раз, дано было ежу мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило, ни возлюбило его, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным. Таковой, уже отошедший от земли, видит и лоно Авраамово, и беседует с Авраамом как в притче о богатом и Лазаре нам указано, и рай созерцает, и к Господу восходить может, но именно тем-то и мучается, что к Господу взойдет он, не любивший, соприкоснется с любившими, любовью их пренебрегший. Ибо зрит ясно и говорит себе уже сам: «ныне уже и знание имею и, хоть возжаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кончена жизнь земная и не придет Авраам хоть каплею воды живой (т. е. вновь даром земной жизни, прежней и деятельной) прохладить пламень жажды любви духовной, которою пламенем теперь, на земле ею пренебрегши: нет уже жизни, и времени больше не будет».
Итак, деятельная, живая любовь возможна только в этой, земной жизни, со всеми ее противоречиями. В лоне Авраамовом никакая деятельность уже не мыслима, там нет уже времени, т. е. не совершается никаких событий, никаких «происшествий», нет, следовательно, ни любви, ни жизни. Как видим, Зосима, а его устами и сам Достоевский, говорит то же самое, что и карамазовский черт.
Г-н Мережковский лелеет надежду – «такую новую, такую робкую»[10], – что с наступлением апофеоза и черт будет прощен, т. е. «рявкнет» в конце концов свою осанну, позабыв о жизненной необходимости «минуса». Зосима – Достоевский утверждает, что никогда не прейдет царство сатаны:
О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой, есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело… ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают… и будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти.
Не дух ветхозаветной «справедливости», ветхозаветной идеи о Божественном возмездии сказывается в этом признании вечного ада. Бог и после кончины мира не перестает «звать» к себе грешников, проклинающих Его, – они сами не идут в рай. Адское самоистязание грешников необходимо в системе грядущего миропорядка, как тот «минус», без которого вечный «живот» праведников превратился бы в пустоту вечного небытия.
При внезапном прекращении какой-нибудь острой мучительно боли самое это прекращение, самое «небытие» боли ощущается на момент как интенсивнейшее блаженство. Но, увы! – от этой мгновенной иллюзии блаженства через минуту не остается и следа, – и чтобы возродить ее, недостаточно простого воспоминания о былых муках, необходимо их новое реальное переживание. Страдания грешников – это тот вечно ноющий зуб, по контрасту с которым праведники только и могут воспринимать свое благополучное здравие как райское блаженство. Не будь вечного ада, рай был бы подобен блаженной секунде перед эпилептическим припадком, о которой Достоевский устами князя Мышкина говорит: «Да за этот момент можно отдать всю жизнь». Тотчас же за последним звуком последней трубы архангела – мгновение «неслыханного и негаданного дотоле чувства полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни»…. а затем вечный «трансцендентный» обморок, вневременной мрак «нуменальной» эпилепсии. Мережковский справедливо называет эпилепсию «вещей» болезнью, – но этого мало: эпилепсия не только «вещает» о грядущей гармонии, как ее таинственный символ, она сама есть точный дубликат этой гармонии.
Припомним исходный пункт учения г-на Мережковского: теперешняя жизнь сама по себе нелепа и ужасна, – только вера в апокалипсический «Конец» может придать ей смысл и значение. Оказывается, однако, что и конец сам по себе лишен всякого смысла и даже всякого содержания, что не он сообщает значение теперешней жизни, а наоборот, эта последняя, со всеми ее страданиями, нужна для того, чтобы придать абсолютному нулю конца некоторую видимость положительной величины. – Этот безвыходный, тусклый тупик, эта свидригайловская «баня с пауками» вместо той светозарной перспективы, которую рисуют наивные пророки конца à la г-н Мережковский, и лежит в основе известного «бунта» Достоевского – Карамазова. За последнее время очень много писалось о «слезинке замученного ребенка» и о невозможности «принять» наш земной мир с его бессмысленными страданиями и жестокостями. Но ведь «неприятие» Карамазова относится не только к этому, но и к будущему миру и даже к будущему-то в первую голову:
Пока еще есть время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка… Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно.
Не от земной жизни отрекается здесь Карамазов. Свое плавание по морю житейскому, хотя бы и в качестве безбилетного пассажира, он не намерен заканчивать «ранее 30 лет», – а в действительности его стихийная жажда «клейких листочков» жизни не утолится и в течение трижды тридцати лет. Но зато от «билета на вход» в будущий мир, в царство гармонии, он отказывается бесповоротно. Этого билета он не потребует назад даже в том случае, если окажется «не прав», т. е. если действительно существует какой-то «четырехмерный» разум, воспринимающий мрак конца как свет, а ужас бессмысленного страдания как необходимый момент конечной гармонии. Карамазов не хочет для себя этот четырехмерного разума, и в этом он бесспорно «прав». Если уж говорить об «искушениях дьявола», то, конечно, величайшим издевательством над людьми духа пошлости и подлости является идея всеосвящающего и всеоправдывающего конца, – идея, что не только свободные страдания творчества, которые сами себя оправдывают, но и рабские муки бессильной истязаемой жертвы в глубочайшей сущности своей «святы», имеют внутренний нравственный «смысл», пока еще «сокровенный» от нас, но имеющий раскрыться при ослепительном свете конца.
III
Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage, – говорит Мефистофель. Это не издевательство дьявола над святынею «истины», а одно из глубочайших откровений о природе человеческого разума. Всякая вполне осуществленная, вполне постигнутая разумом «истина» становится рано или поздно Unsinn, т. е. не только банальностью или пошлостью, но и реальным препятствием, сковывающим дальнейшие шаги разума. Лишь выйдя за пределы наличной истины и, следовательно, признав ее относительной и условной, разум достигает истины более глубокой, включающей в себя предыдущую как частный момент. Если бы это было иначе, если бы каждая истина не превращалась «в конце концов» в Unsinn, если бы существовала какая-то предопределенная, неизменная абсолютная истина, то сам разум как деятельность, как творчество и как пафос творчества был бы Unsinn.
Сотни тысяч лет протекли с тех пор, как сознательная, т. е. творческая работа разума сделалась преимущественной особенностью животного «человек», – но и до сих пор чувство человека не может примириться с этим, до сих пор человек не перестает скорбеть о том, что «дьявол» попутал его вкусить от древа познания и лишил первобытной райской гармонии. Революционный разум становится добровольным рабом консервативного чувства: все свои силы – зачастую далеко не заурядные – он употребляет на демонстрацию своего собственного ничтожества, своей неспособности постигнуть «вечные проблемы мироздания», и под видом «религии» создает жалкий, серединный, полусознательный, полуинстинктивный суррогат того целостного блаженства зоологической «невинности», которое безвозвратно утрачено нами еще в дочеловеческий период нашей истории.
И любопытно, что тенденция эта свойственна не только мистикам, поносящим безбожный дух современной культуры, но и многим крупным деятелям самой этой культуры.
Мережковский видит в чеховщине яркий образчик той психологии, которая создается на почве атеистической веры в культуру.
Теперешняя культура, – пишет Чехов в одном письме, – это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы, хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога – т. е. не угадывало бы, не искало в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре.
Г-н Мережковский остроумно показывает, что эта религия культуры, эта вера в рационального Бога, ясного, как «дважды два четыре», неразрывно связана с пессимизмом чеховских героев, с их никчемностью, с их «трансцендентной» скукой.
Мы знаем ту социально-политическую среду, в которой выросло поколение «чеховских типов», мы знаем те веяния времени, которые нашептывали «восьмидесятнику» и трансцендентную скуку, и бессильные грезы о торжестве разума «через несколько сотен лет». Но Мережковский с полным основанием мог бы возразить, что этих специально русских условий недостаточно для объяснения тесной связи между пессимизмом и религией разума. Он мог бы указать на Мечникова – гораздо более француза, чем русского, – который тщетно старается преодолеть тоску жизни «естественным инстинктом» смерти. Он мог бы сослаться на другого крупного французского ученого, биолога Ле-Дантека, пессимизм которого также сводится, в конечном счете, к неутолимой жажде раскрыть научным путем «абсолютную» истину жизни.
Да и незачем ссылаться на отдельные имена. Достаточно раскрыть первый попавшийся трактат из области точных наук, чтобы убедиться, что стремление рассматривать научное творчество только как средство для отыскания всеразрешающего конца познания, характерно для большинства ученых нашего времени. Невозможность этого конца или, по крайней мере, неосуществимость его в ближайшее время есть типичный источник современного познавательного пессимизма, той научной «скромности», которая видит в объектах разума лишь несущественную внешность, лишь «явления» мира, и тем самым постулирует сверхразумную «внутренность» или «сущность» вещей – область, так называемого, интуитивного или мистического познания. А если ученый не признает мистического откровения, то почти наверное вы найдете у него какой-нибудь суррогат мистики в области откровений самой науки. И такая научная «смелость», такое гипостазирование отдельных приобретений разума, возведение их в сан конечных истин, представляет для развития творческой мысли препятствие чуть ли не горшее, чем самоограничение «научной скромности».
Среди построений научной мысли принято различать две категории, – так называемые «рабочие гипотезы» и «теории».
Познавательные конструкции первой категории потому и называются «рабочими», что именно они являются орудием научной работы в собственном смысле этого слова, орудием научного творчества, – тем не менее, ученые относятся к ним как-то двойственно и как бы конфузливо. Рабочей конструкцией можно пользоваться, но нельзя придавать ей серьезного научного значения: ведь это только «гипотеза», – она еще не определилась, не выяснена еще область ее применения; «в конце концов» она, быть может, вовсе не верна, не обнимает всей той суммы фактов, для которых придумана. Это нерешительное полупризнание «гипотезы»[11] ставит ученого почти в безвыходное положение, когда к нему с торжественным видом приступает «великий инквизитор» науки, «критический философ», и строго спрашивает: «А позвольте узнать, милостивый государь, на каком основании оперируете вы не одними бесспорными истинами, вытекающими из вечных законов разума, но также произвольными измышлениями вашей субъективной фантазии?» Ученый не знает, куда глаза девать от сраму, – он чувствует, что перед святейшим трибуналом гносеологии его незаконная связь с легкомысленной «гипотезой» ничем не может быть оправдана… Гипотеза принесла с собой расцвет научного творчества, целый ряд гениальных прозрений, неожиданных открытий, изобретений, предсказаний… Но разве все это имеет абсолютную ценность, разве все эти завоевания науки не эмпирический тлен и суета? И ученый, заикаясь от смущения, начинает приводить смягчающие его вину обстоятельства: он и не думал никогда придавать гипотезам какую-либо научную ценность, – это только так… «леса», которые тотчас же будут убраны, когда достроится до конца здание науки; научную ценность имеет, само собой разумеется, только этот грядущий «через несколько столетий» конец, это завершенное, абсолютно достоверное здание, а не процесс постройки и его временные, случайные орудия…
Но вот «гипотеза» выдержала все испытания: область ее применения определена окончательно, и само это применение не связано уже ни с каким творчеством, ни с какими открытиями, но совершается с правильностью и отчетливостью раз навсегда установленного шаблона. Познавательная конструкция приобретает прочную научную ценность, она именуется теперь уже не «гипотезой», а «теорией», и сама гносеология спешит освятить ее сожительство с разумом, установить ее связь с «вечными законами» последнего.
Сто с лишним лет тому назад принцип «неразрушимости материи» был робкой гипотезой; семьдесят лет тому назад принцип «сохранения энергии» казался настолько произвольной конструкцией, что солидная наука отказывалась признать за ним какое-либо серьезное значение. – После того как Гельмгольц доказал всеобщность закона сохранения энергии в области всех известных тогда физических и химических процессов, гносеология немедленно выяснила, что и доказывать-то тут было нечего, так как закон сохранения энергии – не вывод из эмпирических фактов, а предпосылка их исследования, покоящаяся на априорных категориях «чистого» рассудка. Сами же эти категории, как известно, не зависимы от каких-либо эмпирических данных, одинаково достоверны на Земле, на Марсе и на Сириусе, теперь и через миллиарды лет: земля и небо прейдут, но категории чистого рассудка не прейдут вовек.
С тех пор, как основы классической механики были, таким образом, незыблемо обоснованы sub specie aeternitatis, прошло всего полвека. Земля и небо еще далеко не «прешли», а между тем появились удивительные тела, вроде радия, которые, не желая знать ни о каких категориях чистого рассудка, отказывают в повиновении закону неразрушимости материи. Мало того. Французский физик Ле Бон доказал экспериментально, что материя всех решительно тел нашего опыта непрерывно разлагается, превращаясь, быть может, в световой эфир, во всяком случае, в нечто, лишенное основного свойства «материи»: инерции, постоянной массы. Всякая материя, по выражению Ле Бона, «дематериализуется». Но вместе с тем падает и закон сохранения энергии, по крайней мере, в его классической форме: если то «нечто», которое образуется из материи при ее разложении, не обладает постоянной массой, то оно не может обладать и постоянной энергией, которая измеряется половиной произведения массы на квадрат скорости.
Гносеология пока совершенно игнорирует работы Ле Бона – как игнорирует она современную философию математики (т. е. «логистику»[12]), в корне подрывающую кантовское учение о «синтетических суждениях a priori». Солидные ученые-специалисты относятся к разрушителю постоянства энергии – Ле Бону – почти так же, как их деды относились к основателю этого принципа, Майеру, т. е. не говорят ни да, ни нет, и стараются вообще по возможности о его выводах не думать.
Перспективы, открываемые работами Ле Бона, колоссальны. Вот некоторые из них. «Дематериализация» заставляет думать, что возможен и обратный процесс – «материализация», создание химических элементов из общей им всем эфирной праматери, а если так, возможен и процесс превращения одного элемента в другой. Далее: искусство усиливать процесс дематериализации обещает отдать в распоряжение человека практически безграничные запасы даровой энергии. Из тех трех основных задач, над которыми бились когда-то алхимики – открытие философского камня, perpetuum mobile и жизненного эликсира, – две первые становятся научными[13] на том пути, который намечен Ле Боном.
Но разве эмпирические перспективы, как бы обширны они ни были, могут вознаградить истинного солидного мужа науки за потерю той абсолютной гармонии, которая царствовала до сих пор в его области? Когда-то еще удастся вполне овладеть этими новыми, могучими и непокорными силами и уложить их в такие изящные, законченные, неподвижные формулы, в которых покоится классическая механика! А пока какой-то неопределенный хаос, ряд неуверенных гипотез, жалкое шатание мысли. И ученый приступает к новым открытиям не только с критическою осторожностью, всегда необходимой, но и с явным недоброжелательством; втайне он лелеет надежду, что все эти неприятные новшества окажутся недоразумением и пустяком, что ему не придется ломать самые основы своего миросозерцания, которые он привык считать абсолютной истиной.
Бесчисленны и многообразны проявления психологии «конца» в области познания. Одним из наиболее ярких образчиков этой психологии является стремление априори наметить границы науки. Между тем, если есть какие-либо «априорные» предпосылки научного исследования, то невозможность априори определить границы познания – самая очевидная из них. Нет и не может быть принципиально неразрешимых для науки проблем. Неразрешимы только неправильно заданные, внутренне противоречивые проблемы. Но внутреннее противоречие нельзя и представить себе как задачу, подлежащую решению: достаточно вскрыть противоречие, лежащее в основе неправильно заданного вопроса, для того чтобы он тотчас же перестал быть вопросом и превратился в бессмысленный набор слов.




