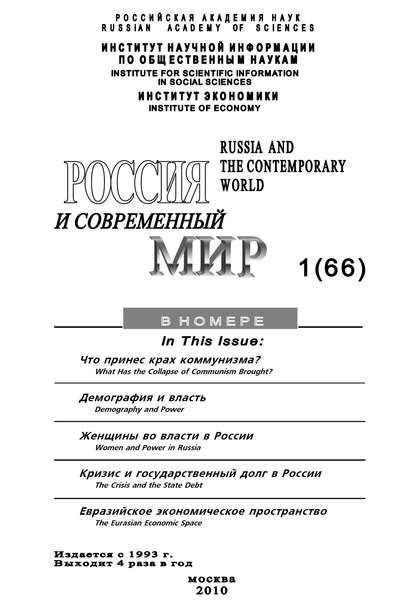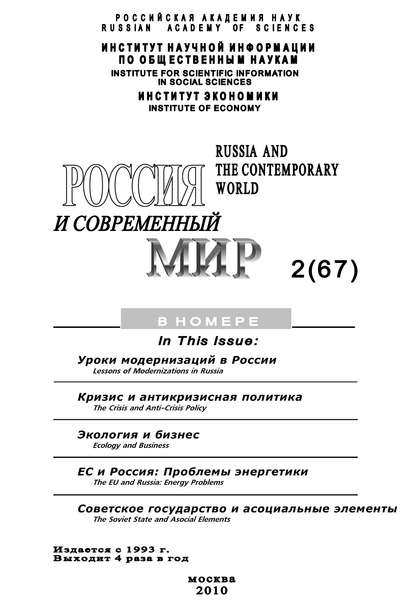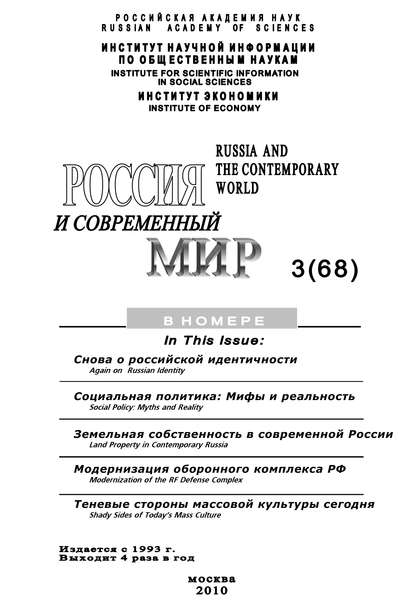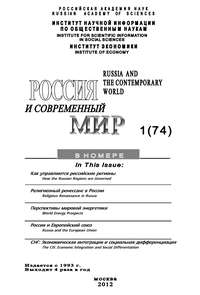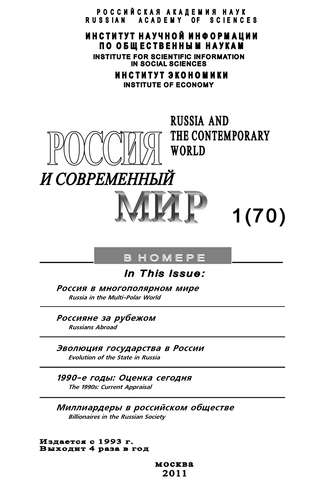
Полная версия
Россия и современный мир №1/2011
Значит ли это, что идеи перезагрузки или – тем более – «большой сделки» в принципе неработоспособны? В качестве селективного подхода перезагрузка едва ли может рассчитывать на успех, но если перезагрузку понимать как кропотливую и целенаправленную работу по формированию устойчивой основы российско-американских отношений в XXI в., то у нее есть неплохие шансы. В этом смысле азиатский фокус поиска взаимного баланса интересов может иметь решающее значение. Однако сам этот баланс должен в конечном счете зафиксировать изменение общего соотношения сил, в котором США – все еще наиболее мощная держава постамериканского мира, а Россия – один из полюсов нового мирового порядка и (по совместительству) крупнейшая страна Евразии. Политические следствия такого баланса интересов должны быть вербализованы, проговорены на уровне политической элиты США и России, а затем и трансформированы в совокупность формальных и неформальных обязательств.
Насколько далеко могут (и должны) идти эти обязательства? Основным контекстом выстраивания российско-американского партнерства является возвышение Китая и возникающая в связи с этим новая сфера близости интересов России и Америки. Учитывая «низкий старт» двусторонних отношений, Россия заинтересована в том, чтобы в обозримой перспективе ее уровень партнерства с Америкой оказался сопоставимым с нынешним уровнем российско-китайских отношений. Но если двигаться в этом направлении дальше, то плюсы со все возрастающей скоростью начнут меняться на минусы, поскольку перерастание гибкого партнерства в жесткий набор двусторонних обязательств выдвинет Россию на авансцену соперничества двух ведущих держав современного мира. И тогда Россия, в конце концов, окажется втянута в игру, в которой в лучшем случае останется на вторых ролях, а в худшем – превратится из игрока в фигуру, которой основные игроки при случае могут и пожертвовать.
По всей видимости, во втором десятилетии XXI в. разговоры об интеграции России в НАТО или какую-либо другую форму военно-политического союза с участием США и стран ЕС будут только усиливаться. Пока такие разговоры далеки от конкретики, но они начались и начались не случайно. О динамике этого процесса можно судить и по характеру обсуждения проекта общеевропейского Договора о коллективной безопасности, предложенного президентом России. Достаточно характерно, что саму идею не решился отвергнуть никто, даже натовские новобранцы из стран Центральной и Восточной Европы, для политической элиты которых едва ли не экзистенциальное значение имеет удержание России вне рамок той системы безопасности, функционирование которой обеспечивает НАТО. В результате в Москве уже третий год слышат вежливые заявления о намерении «тщательно изучить» и «всесторонне рассмотреть» российскую инициативу. Несколько реже звучат фразы о принципиальной поддержке предложенного Договора и о солидарности с его базовым постулатом о неделимости европейской безопасности. Можно предположить, что «тщательное изучение» и «всестороннее рассмотрение» будут продолжаться до греческих календ, если только в один момент наши партнеры в Вашингтоне и Брюсселе не захотят обнаружить, что такой Договор, в сущности, предлагает единую систему безопасности не только для Европы, но для индустриально развитого Севера в целом, и исключает из этой системы Китай и другие страны быстро развивающегося Юга.
Вероятно, что кошмарный сон российской внешней политики – дальнейшее расширение НАТО на восток – так и не станет явью. В сущности, в этом состоит основное достижение мюнхенского курса Владимира Путина, хотя, скорее всего, экспансия НАТО на постсоветском пространстве окончательно утратит свою актуальность в контексте общей динамики «постамериканизации». Проект Договора об общеевропейской безопасности также призван блокировать расширение НАТО, но если эта цель будет достигнута, то лишь как международно-правовая фиксация fait accompli. Следовательно, это уже не тот приз, за который стоит платить любую политическую цену. Гораздо большее значение имеет сама возможность равноправного участия в определении правил игры как в вопросах европейской безопасности, так и в том, что касается более широкого спектра межгосударственных отношений в Большой Европе.
Европейские надежды и азиатские реалииС Европой связаны фундаментальные интересы России. Но ситуация здесь почти патовая. Периодически возобновляющиеся разговоры о стратегическом партнерстве Европейского союза и России, скорее, оттеняют их взаимное отчуждение. Впрочем, также и взаимное удовлетворение: Евросоюз доволен уже тем, что Россия (в отличие от почти столь же проблемной Турции) даже не пытается претендовать на членство в этом объединении, тогда как Москва может видеть все больше плюсов в том, что ее к этому никто и не подталкивает. Сам институциональный дизайн ЕС (даже с новоприобретенными «президентом» и «министром иностранных дел») фактически блокирует сколько-нибудь существенное сближение с Москвой. Это не значит, что вовсе исключен прогресс на отдельных направлениях, как, например, установление безвизового режима для краткосрочных поездок. Но ожидать каких-то качественных прорывов в отношениях между Россией и институциями Евросоюза (если, конечно, не относить к числу прорывов велеречивые декларации о партнерстве и долгосрочные планы действий) в ординарных обстоятельствах едва ли приходится. Хуже всего то, что участие в ЕС неизбежно ограничивает свободу политического маневра отдельных его членов, включая и самых мощных, с которыми Россия стремится развивать привилегированные отношения на двусторонней основе.
Тупиковая ситуация на европейском направлении может быть преодолена в случае, если внутренние и внешние обстоятельства развития стран ЕС драматически изменятся. Если же динамика процессов в Евросоюзе будет носить рутинный характер, то, очевидно, это интеграционное объединение так и останется «успешной проваливающейся организацией» (8, с. 68). Проект евроинтеграции слишком инерционен, чтобы кто-либо из облеченных властью политиков стран ЕС решился заявить о необходимости завершить этот, безусловно, великий исторический эксперимент. Скорее, напротив, даже при усилении позиций евроскептиков и росте их поддержки среди европейских избирателей громоздкая машина ЕС будет набирать обороты.
Но в конце концов ничто не вечно. И в этом смысле России, ее политической и интеллектуальной элите важно не отворачиваться от ЕС-овской машины, а вести разговор как с ее функционерами, так и с европейской общественностью, т.е. с той силой, с выходом которой на политическую арену Юрген Хабермас и Жак Деррида относительно недавно связывали надежды на «второе рождение Европы» (2). Надежды двух философов оказались преждевременными, но европейская публичная сфера все-таки играет очень важную роль в том, что касается определения ситуации (буквально по теореме Томаса: «Если ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим последствиям»). Конкретно, в новом определении европейской ситуации интересам России могла бы соответствовать фиксация, по крайней мере, двух вещей:
– Европейский союз не равнозначен Европе;
– другая Европа возможна.
Даже если Россия определяет свою собственную ситуацию как участие в «подъеме остальных», то открытость к широкому диалогу с отдельными странами ЕС и с Евросоюзом в целом должна сохраняться. Более того, в данном случае особенно важна способность генерировать нестандартные идеи и ходы, задающие направления диалогу. В этом смысле можно только приветствовать идею «Союза Европы» (5), которую намерен продвигать Сергей Караганов. Будучи весьма проблематичной в качестве конечной цели, она очень важна процессуально, поскольку может серьезно расширить пространство маневра для России, государств – членов ЕС, других европейских или полуевропейских стран.
Последняя группа имеет особенное значение. Сергей Караганов не случайно упомянул в числе потенциальных инициаторов Союза Европы такие страны, как Турция, Казахстан и Украина. Сближение России с Турцией в последние годы – один из самых интересных и неожиданных поворотов в процессе становления постамериканского мира. Турция с ее мощным потенциалом и серьезными амбициями не может оставаться вечным просителем в приемной Евросоюза. Осознавая свою страну ведущим центром силы в одном из ключевых регионов мира, находящиеся у власти в Анкаре представители партии Справедливости и развития делают все более решительные шаги в направлении нового позиционирования Турции в глобальной политике. И здесь обнаруживается близость интересов России и Турции, по крайней мере на данном этапе процесса «постамериканизации». Не исключено, что Россия и Турция могли бы предпринять совместные усилия по выработке консолидированного подхода в отношении Европейского союза и будущего Большой Европы.
Наконец, Украина. Динамичные позитивные изменения в российско-украинских отношениях после избрания президентом Виктора Януковича относятся к числу наиболее ярких событий 2010 г. Но есть опасность растратить этот потенциал, если Москва и Киев будут ориентироваться на существующие шаблоны межгосударственных отношений на постсоветском пространстве. «Бегство от Москвы» – альфа и омега политики прежней украинской власти – оказалось прорывом не в Европу, а в геополитический тупик. Но и резкие движения в противоположном направлении не сулят Киеву больших дивидендов, особенно если они будут опираться на существующие институциональные формы сотрудничества постсоветских государств. России следовало бы помочь нынешней украинской власти в определении особого положения Украины в Большой Европе, где она могла бы играть действительно активную и уникальную роль, к которой с равным уважением будут относиться и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. И если России имеет смысл претендовать на статус самостоятельной силы в масштабах всего постамериканского мира, то и Украине стоит стремиться к аналогичному положению в Большой Европе.
При всей важности поиска новой формулы Большой Европы и расширения в процессе этого поиска пространства политического маневра для России, все же следует исходить из фактической расстановки сил и наличия «лиссабонской» модели ЕС. Диалог с Евросоюзом необходим, трудности в нем неизбежны. И даже ради одного упрочения позиций России в этом диалоге требуется осуществить поворот на восток, максимально использовать возможности, связанные с перемещением центра глобальной финансовой и индустриальной мощи в Азиатско-Тихоокеанский регион. Только утвердившись там в качестве активного и влиятельного игрока, Россия сможет вести диалог с другими европейскими странами более уверенно. И главное: российские территории к востоку от Урала должны стать задействованным резервом национального развития, а не пространством демографического и индустриального вакуума.
Глобальное междуцарствие: От постамериканизации к поствестернизацииПри обсуждении перспектив России в многополярном мире нельзя обойти вниманием и аргументы более общего порядка. Зигмунт Бауман, анализируя динамику модерна в начале XXI в., обращается к термину Interregnum – междуцарствие, который Антонио Грамши использовал для характеристики ситуации ожидания радикальных перемен, вызванных социальными потрясениями эпохи Великой депрессии (7). Грамши вкладывал в понятие «междуцарствие» свой особый смысл, имея в виду одновременные и глубокие изменения социального, политического и юридического порядка. Как и тогда, сегодня старые концепции, институты и механизмы влачат свое существование, демонстрируя прогрессирующую дисфункциональность. Глобальный капитализм в его «докризисном» виде, Вашингтонский консенсус, западное государство всеобщего благосостояния, «постбиполярные» механизмы безопасности и т.д. сохраняются, но вера в их жизнеспособность тает. В то же время никакой полноценной замены этим столпам современности пока не видно.
Процесс «постамериканизации» также вписывается в эту картину «междуцарствия», но не исчерпывает ее. Вполне уместно говорить о более общем процессе «поствестернизации», имея в виду завершение эпохи доминирования цивилизации Запада и множащиеся опровержения догмата о сингулярности европейской (западной) версии модерна.
Как известно, концепция множественности модернов (multiple modernities) была выдвинута Шмуэлем Эйзенштадтом, который подчеркивает, что структурная дифференциация неевропейских обществ совсем не обязательно воспроизводит европейскую модель. По его мнению, европейская модель стимулирует появление различных институциональных и идеологических паттернов за пределами Европы. Эйзенштадт пишет: «Существенно, что эти паттерны не конституировали простое продолжение в современной эре традиций их обществ. Такие паттерны, несомненно, относились к модерну, хотя и испытывали сильнейшее воздействие специфических культурных посылок, традиций и исторического опыта. …Идея множественности модернов означает, что наилучший путь понимания современного мира …состоит в рассмотрении его как повествования о непрерывном конституировании и реконституировании разнообразия культурных программ» (10, с. 2).
В контексте теории Эйзенштадта метафора «междуцарствия» могла бы означать, что западная версия модерна в основном исчерпывает свою миссию «перенастройки» незападных культурных программ и вступает в период сосуществования и конкуренции с другими, возникшими на основе этих программ версиями модерна. Но это сосуществование означает ни больше, ни меньше, как признание плюрализма базовых ценностей, институтов и моделей политического устройства, следующее за признанием плюрализма культурных программ.
В рамках динамических изменений системы международных отношений можно наблюдать многочисленные манифестации тех же самых сдвигов. Достаточно указать на феномен БРИК и активную роль России в качестве участника этой группы. Разумеется, активность России в рамках этого международного формата принимается далеко не всеми, причем среди тех, кто наиболее жестко ставит под сомнение обоснованность присутствия России в новом лидерском клубе, есть и весьма известные фигуры – такие, как Нуриэль Рубини или Джозеф Най. Характерно, впрочем, что подавляющее большинство этих голосов раздается не из Китая, Индии или Бразилии. По странному стечению обстоятельств, критики российской вовлеченности в конструкцию БРИК особенно активны в странах Запада, а также в среде убежденных отечественных вестернизаторов.
Любопытно, что автор термина «мягкая сила» Дж. Най, с большой настороженностью отзывающийся о феномене БРИК в целом (6), умалчивает, что эта конструкция становится новым источником «мягкой силы». При этом устойчивость всей конструкции БРИК может быть обеспечена только благодаря предельно широкому и гибкому толкованию демократии и прав человека, признанию плюрализма ценностей, культурных программ и моделей политического устройства.
Следует отметить, что привлекательность и влияние БРИК сохраняются до тех пор, пока это объединение воздерживается от эволюции в сторону формирования жесткой институциональной структуры и принятия на себя ее участниками существенных обязательств по отношению друг к другу. Если это произойдет, то тогда, в самом деле, осуществятся многие из мрачных пророчеств критиков БРИК, и стратегия взаимного выигрыша обернется нарастающими разногласиями и соперничеством.
Несомненно, что феномен БРИК ставит дополнительные вопросы к преобладающим концептуализациям международных отношений. Сдвиг в сторону постамериканского мира побуждает к их корректировке, например, к тому, чтобы отделить качественные характеристики международного порядка от изменения глобальной роли США. Так, Джон Айкенберри выражает убеждение в устойчивости либерального международного порядка даже в условиях относительного ослабления могущества США. Айкенберри готов говорить лишь о «кризисе успеха», но не о кризисе представлений о сингулярности проекта модерна. Логика его рассуждений основывается на предпосылке, что движущей силой единого проекта модерна выступает общий интерес ведущих международных акторов к воспроизводству либерального порядка, который, по крайней мере теоретически, приносит блага всем и каждому. При этом получается, что потребности и интересы России, Китая и других незападных держав могут быть удовлетворены благодаря еще большему распространению принципов и практик западного либерализма (13).
Международный порядок – вещь весьма инерционная, и в условиях «междуцарствия» трудно ожидать его быстрого переформатирования. Скорее всего, многие устойчивые глобальные взаимозависимости в сферах безопасности, торговли, финансов и охраны окружающей среды будут трансформироваться гораздо медленнее, чем изменение экономического и политического веса ведущих глобальных игроков. Однако фундаментальной особенностью либерального международного порядка является установление иерархических отношений, которое в долгосрочном плане несовместимо с «подъемом остальных».
Неудивительно, что реакция западного экспертного сообщества на возвышение незападных держав характеризуется растерянностью и даже алармизмом. С одной стороны, ряд комментаторов и аналитиков видят в этих державах чужаков, представляющих угрозу. С другой стороны, слышатся голоса в пользу того, чтобы рассматривать усиливающиеся страны незападного мира как «нам подобных», нуждающихся в социализации и в обучении соблюдать правила. Как отмечает Тим Данн, в контексте современной международной политики обе стратегии выступают манифестациями представлений о безальтернативности западной версии модерна, причем такой подход останется востребованным даже несмотря на его прогрессирующую неадекватность (9, с. 542).
Означает ли это, что и Россия «обречена» адаптироваться к постамериканскому миру, упорно сохраняя верность догме о сингулярности модерна? Оправданно ли в эпоху «междуцарствия» форсировать цивилизационный выбор, или, по крайней мере, связывать себя жесткими внешнеполитическими обязательствами, которые свидетельствовали бы о приверженности западной версии модерна?
Вопрос состоит не в том, что цивилизационный выбор в пользу Запада невозможен, неприемлем или недопустим, а либеральные ценности на российской почве прорастают какими-то уродливыми сорняками. Одной из основных составляющих взаимного разочарования России и Запада после окончания «холодной войны» было как раз то, что зона совпадения или близости ценностей очень велика, тогда как различия казались в конечном счете преодолимыми. Но в итоге в России сформировалось стойкое убеждение, что дискуссии о ценностях направлены на подрыв российских интересов, тогда как многие на Западе от неоправданных иллюзий периода горбачёвской перестройки и ельцинских реформ перешли к уверенности в «неисправимости» России. В этих условиях единственным конструктивным решением может быть перевод политических дискуссий на язык интересов; споры о ценностях лучше оставить представителям научного сообщества и активистам неправительственных организаций.
Хотя 20-летие распада СССР уже не за горами, крайне преждевременно говорить о том, что посткоммунистические трансформации в новой России окончательно завершены, сформировалась новая политическая нация, а общество справилось со всеми последствиями социальных травм. Сам факт того, что Дмитрию Медведеву потребовалось провозглашать курс на модернизацию, свидетельствует, по крайней мере, о частичной неудаче всей постсоветской социально-экономической политики, основной вектор которой (даже в период воссоздания «вертикали власти») оставался либеральным и вестернизаторским. Ясно, что требуется поворот, серьезная коррекция курса. И если уж решено называть этот поворот «модернизацией», то следует, по крайней мере, исходить из того, что модернизация в эпоху междуцарствия модерна должна быть сугубо прагматическим действием. В сущности, это все та же кошка Дэн Сяопина, единственным значимым качеством которой является эффективность в ловле мышей, а не соответствие стандартам породы западного модерна. Если экономика России, ее государство и общество начнут «ловить мышей», то локализация российского модерна в созвездии современностей не заставит себя ждать, а вопрос о его совместимости либо несовместимости с западной версией модерна может затем сколь угодно долго оставаться предметом академической дискуссии.
Незаменимый полюс и свобода выбораНесмотря на огромное количество различных комбинаций, в многополярном мире внешнеполитический выбор, в сущности, сводится к двум основным вариантам: быть одним из самостоятельных полюсов мульти-центричной системы международных отношений (или стремиться к этому статусу) либо находиться в чьей-либо зоне притяжения. Понятно, что это две отличающиеся друг от друга стратегии поведения и мобилизации ресурсов. Это также и две принципиально различных модели восприятия внешнеполитических рисков.
Россия, как крупнейший осколок Советского Союза, объективно все еще имеет немало оснований претендовать на статус одного из полюсов в многополярном мире. Однако общая динамика на протяжении двух последних десятилетий в случае России была понижательной, а для периода 1990-х годов – обвальной. Даже стабилизация и нефтегазовый бум периода президентства Владимира Путина пока могут рассматриваться лишь как временное торможение в этом крутом движении вниз. Заявленная Дмитрием Медведевым программа модернизации представляет собой новую попытку изменить негативный тренд, но насколько она окажется успешной станет ясно на протяжении второго десятилетия XXI в. Иными словами, Россия пока по инерции остается одним из полюсов мировой политики, но в дальнейшем для сохранения в этом качестве российской власти потребуется привлекать все больше дополнительных ресурсов.
В связи с этим можно ожидать роста популярности среди части российской политической элиты древней максимы Quod licet Iovi, non licet bovi. Если негативный тренд не будет остановлен, то появятся обоснования и сторонники нового понижения позиции России во всемирной табели о рангах. Основные аргументы будут состоять в том, что мы не можем себе позволить аккумулировать значительные ресурсы в целях сохранения статуса одного из центров многополярного мира, а также в том, что вхождение в зону притяжения какого-то другого полюса позволит оптимизировать риски существования в турбулентной среде, возмущение которой становится почти неизбежным в период завершения американской глобальной гегемонии.
В принципе, отвергать эту позицию только потому, что Россия должна быть великой, могучей и никакой иной, по меньшей мере, недальновидно. При определенных обстоятельствах у нас в самом деле может не оказаться другого выбора. Но несомненно, что любая власть в России должна стремиться к предотвращению подобной ситуации.
Для России существуют и специфические основания к удержанию статуса одного из полюсов многополярного мира и сохранению при этом максимальной степени свободы внешнеполитического маневра. Многовекторность и высокая маневренность российской внешней политики в нынешних условиях выступают важными механизмами компенсации слабостей, обусловленных структурой экономики, демографической динамикой, низким качеством управления, коррупцией и технологическим отставанием. Но помимо решения тактических задач, маневренность должна иметь и «сверхзадачу»: не принадлежа к первой тройке основных центров силы постамериканского мира, Россия должна быть тем полюсом, полномасштабное стратегическое партнерство с которым способно обеспечить несомненный и решающий перевес для любого из основных центров силы. До последнего времени наибольшую готовность воспринимать Россию подобным образом демонстрировал Китай. Однако перезагрузка и некоторые актуальные изменения в позиции Европейского союза говорят о том, что в Вашингтоне и Брюсселе по крайней мере не исключают, что и для них партнерство с Россией будет незаменимым в контексте многополярного мира.
Но опять-таки: все эти преимущества могут проявиться и сохраняться до тех пор, пока Россия остается в положении самостоятельного центра силы многополярного мира, располагающего свободой маневра и открытого для развития партнерских отношений с самыми разными глобальными игроками. Как только на смену этому состоянию придет вовлеченность в какие-либо жесткие союзы и / или интеграционные механизмы с участием более мощных центров силы, преимущества окажутся утраченными. Получается, что Россия должна быть везде и ни с кем.
В конечном счете сохранение за Россией статуса самостоятельного глобального игрока, даже если оно потребует привлечения серьезных дополнительных ресурсов, окажется менее затратным и рискованным, чем вхождение в зону притяжения одного из более мощных полюсов. В последнем случае затраты ресурсов и риски будут обусловлены усиливающимся внутренним напряжением, вызванным необходимостью удерживать развитие общества и государства в русле, общее направление которого задано извне. Вполне понятна логика сторонников этого подхода, заключающаяся в том, чтобы через жесткие внешние обязательства, наподобие акцептации массива acquis communautaire, подтолкнуть запаздывающие внутренние изменения. К сожалению, более реальным представляется сценарий, при котором подгоняемые под импортный шаблон внутренние изменения, с одной стороны, приведут к новой волне имитации институциональных практик демократического правового государства, а с другой – запустят цепную реакцию вполне реальных дестабилизирующих сдвигов в сфере межнациональных и федеративных отношений.