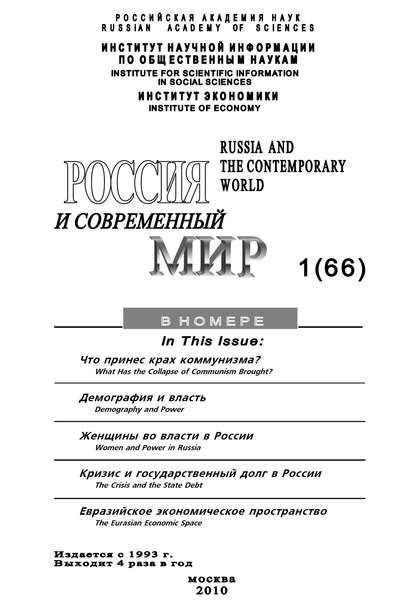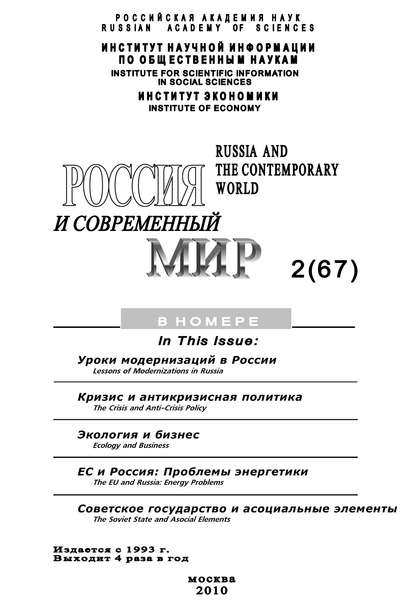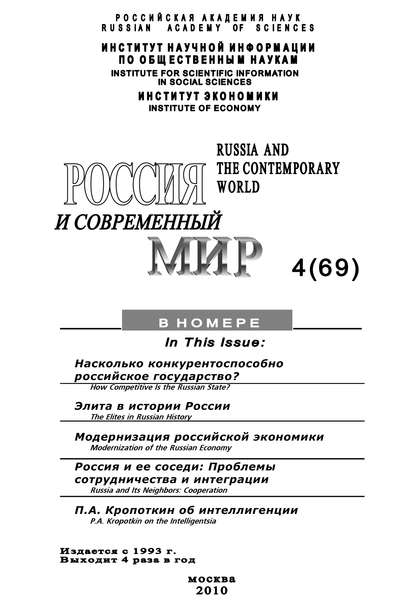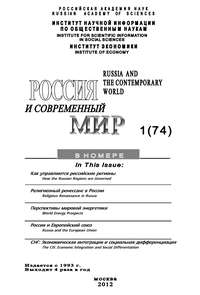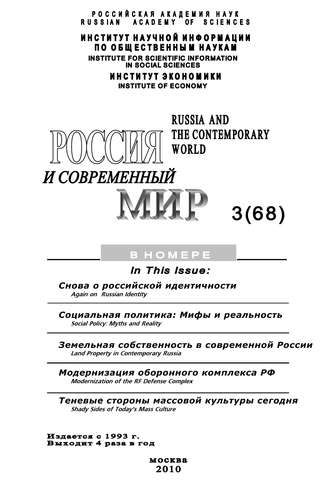
Полная версия
Россия и современный мир № 3 / 2010
Здесь будет уместно вспомнить старую, но продолжающую действовать формулу нации Эрнеста Ренана: «Нация – это душа, духовный принцип. Две вещи, которые в действительности являются лишь одной, создают эту душу, этот духовный принцип. Одна относится к прошлому, другая – к настоящему. Одна является совместным обладанием богатым наследием воспоминаний, другая есть актуальное согласие, желание жить вместе, воля продолжать пользоваться доставшимся неразделенным наследством» (29, с. 46). Надо полагать, что теперь, по первой части этой формулы, нужно решать более сложную задачу, а именно: как-то распорядиться «богатым наследием воспоминаний». Показательно, что российская власть и при Ельцине, и при Путине очень долго не решалась подступиться к этой задаче. Споры об истории были частью общественной дискуссии, но на уровне официальной риторики подавались (и подаются до сих пор) довольно противоречивые сигналы. Но в последнее время, во многом в связи с системными усилиями представителей политической и интеллектуальной элит стран Балто-Черноморского региона по конструированию желательной для них версии исторического прошлого российская власть стала втягиваться в «историческую политику». И, похоже, втягиваться всерьез и надолго. Вполне вероятно, что решив первоочередные задачи и создав иллюзию адекватного ответа центрально– и восточноевропейским «фальсификаторам», наша историческая политика перейдет в стадию целенаправленной инвентаризации и комплексной реинтерпретации «богатого наследия воспоминаний». Так что, говоря словами Люсьена Февра, самые ожесточенные combats pour l'histoire нам еще предстоят.
Не имея возможности (да, похоже, и желания) формировать постсоветскую национально-государственную идентичность на основе конституционного патриотизма, российская власть будет вынуждена подводить под нее культурно-исторический базис. Но конкретные параметры этого действия будут всецело определяться второй частью формулы Ренана. Скажем, чтобы закрепить «желание жить вместе», может потребоваться апелляция к идеям славяно-тюркского симбиоза, создание прагматической версии евразийства, включающей реабилитацию ордынского периода нашей истории (кстати, такое развитие событий пришлось бы по душе многим украинским энтузиастам исторической политики).
Формирование современной российской идентичности на культурно-исторических основаниях неизбежно связано с образом значимого Другого2. Формирование идентичности как притяжение к значимому Другому или отталкивание от него является способом редукции неопределенности, т.е. технологически менее сложным и потому весьма распространенным вариантом нациестроительства. Например, для современного Европейского союза (если говорить о европейской идентичности) на роль значимого Другого могут претендовать США, внешний (а в подтексте – внутренний) ислам и Россия вместе с прилегающим к ЕС постсоветским (буферным) пространством. Для самой России долгое время никакой альтернативы не было – только Запад, который по мере надобности может представать и в образе гегемонистской Америки, и в облике умиротворенной Европы. И даже у Суркова в «Параграфах pro суверенную демократию» присутствует все та же безальтернативность: «Не выпасть из Европы, держаться Запада – существенный элемент конструирования России» (21).
Но теперь ситуация иная. Ведь кажется, что и Бжезинский с «последним сувереном», и Сурков с «суверенной демократией» – это даже не «вчера», а «чуть ранее сегодня». А между тем безальтернативность Запада – и как значимого Другого для России, и как лидера цивилизационного развития, – исчезает на глазах. Сдвиг происходит настолько фундаментальный, что даже обозначившиеся признаки заката американской глобальной гегемонии выглядят всего лишь частным его проявлением. На кону стоит нечто большее. Несколько успокаивающий термин Фарида Закарии «подъем остальных» (7) на деле означает, что 500-летний «момент однополярности»3 европейской (западной) цивилизации близится к завершению. И здесь Россия обнаруживает, что у нее есть выбор, что альтернативой заповеди «держаться Запада» является шанс поучаствовать в «подъеме остальных». Можно сказать и резче: Россия слишком долго пребывала на периферии западной цивилизации, чтобы теперь, на излете ее доминирования, присоединяться к ней и делить ответственность за все ее грехи. В конце концов, у России слишком много своих собственных грехов.
Фарид Закария безусловно прав, говоря об общем подъеме незападных стран. Но все взгляды устремлены на Китай, и у России есть для этого свои особые причины. Именно в лице Китая Россия обрела второго значимого Другого. Предвиделось это давно. Еще Константин Леонтьев в «Записках отшельника» предрекал: «Россия может погибнуть только двояким путем – или с Востока от меча пробужденных китайцев, или путем добровольного слияния с общеевропейской республиканской федерацией» (10, с. 445). Правда, более чем за столетие Россия демонстрировала и возможность третьего пути – самоликвидации, тогда как «угроза» Китая почти все это время оставалась «спящей». Сейчас, когда Китай «пробудился», рассуждения об угрозе могут быть более опасны, чем сама «угроза». В подъеме Китая следует видеть не угрозу России, а риск, т.е. ситуацию, в которой возможен как проигрыш, так и выигрыш. Причем тактический выигрыш для российского политического режима уже очевиден. Прежде всего, он состоит в том, что сопоставление исторического опыта двух стран дает дополнительные аргументы в пользу «возврата» государства: путь Дэн Сяопина был правилен, путь Горбачёва – ложен; сильно (скорее всего – безнадежно) отстав от восточного соседа, Россия возвращается на правильный путь. При этом достижения Китая меняют и шкалу политических ценностей, поскольку успех и эффективность перестают отождествляться с либеральной демократией.
Тактический выигрыш для российской власти от подъема Китая связан и с тем, что сближение с «красным драконом» в рамках двустороннего партнерства или многосторонних форматов ШОС и БРИК, позволяет временно «заимствовать» политический капитал Пекина в непростых взаимоотношениях с Вашингтоном и Брюсселем. Впрочем, даже и это не главное. Свидетельством тому служит быстрый переход российских руководителей от гордости за почти полноправное членство (надолго ли?) в западном клубе G8 к энтузиазму соучредителя клуба новых лидеров глобального экономического роста – БРИК. Оставаясь преимущественно виртуальным объединением, БРИК начинает продуцировать и консолидировать нормативную власть. Нормативное послание БРИК состоит не только в отстаивании вестфальских принципов суверенитета, стремлении к многополярности и демонтажу Вашингтонского консенсуса, но в принципиальном признании плюрализма ценностей, культурных ориентаций и моделей политического устройства. В сущности, нормативное послание БРИК есть не что иное, как перевод концепции множественности модернов Ш. Эйзенштадта (27) на язык глобальной политики. При этом устойчивость всей конструкции БРИК может быть обеспечена только благодаря предельно широкому и гибкому толкованию демократии и прав человека. В свою очередь данная ситуация оказывает влияние на формирование российской национально-государственной идентичности, поскольку существенно снижается внешнее давление, побуждающее к освоению вполне определенного набора политических принципов, институтов и практик.
Если говорить об изменениях последних пяти лет, то за это время у России почти появился и третий значимый Другой – региональный. Речь, разумеется, идет об Украине. Не секрет, что концепция суверенной демократии явилась в числе прочего и идеологическим ответом на вызов украинской «оранжевой революции». Сегодня, после поражения на президентских выборах лидеров майдана и политического реванша Виктора Януковича, можно сказать, что дестабилизирующий потенциал «оранжевой революции» в Москве систематически переоценивался. Тем не менее Украина настолько преуспела в позиционировании себя как «не-России» (во многих случаях явно во вред самой себе), что и в российском политическом классе стала расти популярность констатации «Мы – не Украина». Относительно свежий пример – заявление В. Путина о необходимости избежать «украинизации» нашей политической жизни (19).
Казус Украины, необходимость определять свое отношение к ней как к независимой стране, как к другому высвечивает и самую важную российскую дилемму, заключающуюся в том, что Россия сегодня – это и остаточная империя, и разделенная, но при этом еще окончательно не сформировавшаяся нация. Несомненно, что в типологии империй Россия (Советский Союз) занимает особую нишу. В контексте данной статьи более важно не это своеобразие, а то, что имперская миссия была (остается?) очень сильным фактором, сдерживающим формирование идентичности, характерной для нации-государства. Разумеется, в империях этот процесс не был полностью блокирован. Как пишет Б. Андерсон, в эпоху капитализма, скептицизма и науки «Романовы открыли, что они великороссы, Ганноверы – что они англичане, Гогенцоллерны – что они немцы …» (1, с. 107). Однако бремя мультиэтнической империи имело немалую цену для того этноса, который должен ее цементировать. Может быть, именно поэтому после распада СССР на арену большой политики так и не вышел русский ирредентизм. Что касается российской власти, то и при Ельцине, и при Путине, и при Путине–Медведеве она инстинктивно чувствует опасность такого варианта ухода от имперскости, при котором альтернативой станет мощный подъем этнонационализма. Вернувшееся домой государство, совсем не заинтересовано в том, чтобы оказаться инструментом охваченного националистическими страстями общества. Русская система – это властецентризм, а не этноцентризм.
Возродить большую империю невозможно. Для этого нет ресурсов, равно как и политической воли. Но и совсем перестать быть империей при таком этническом и территориальном составе тоже не получается. Пытаться покончить с «бременем империи» через отождествление самого крупного этноса с государством самоубийственно (по крайней мере, для государства). Подобное отождествление станет, по всей видимости, триггером ирредентизма русских и сепаратизма других российских этносов. Остается движение в направлении нации-государства, или российской нации. В.А. Тишков, внесший важнейший вклад в разработку идеи российской нации, мыслит ее как гражданскую многонациональную общность, т.е. в духе конституционного патриотизма: «Всеми доступными методами нам нужно решительно утверждать российский4 национализм, имея в виду осознание и отстаивание национального суверенитета и интересов страны, укрепление национальной идентичности российского народа, утверждение безоговорочного приоритета самого понятия “российский народ”. Всякие другие варианты национализма на основе этнических крайностей несостоятельны и должны быть отвергнуты» (22, с. 196).
Соглашаясь с В.А. Тишковым по существу, хотелось бы все же подчеркнуть, что решительное использование «всех доступных методов» весьма рискованно, если речь идет о прокладке курса между Сциллой имперскости и Харибдой этнонационализма. Скорее, это все же лавирование, череда паллиативных мер и компромиссов. Не все, что кажется доступным для конструирования идентичности российской нации, следует непременно использовать. Кроме того, если модель конституционного патриотизма до конца не срабатывает даже в рамках наднационального европейского проекта, то у нас ее эффективность без подкрепления историко-культурными аргументами окажется еще меньшей. Формирование российской идентичности без обращения к «богатому наследию воспоминаний» и без культуралистского обоснования «желания жить вместе», по всей видимости, невозможно. Однако подход к решению этой задачи, в сущности, должен быть тем же, что и в случае космополитического проекта переизобретения Европы (У. Бек, Э. Гранд): толерантная к различиям интеграция и совместимая с интеграцией дифференциация (24; 25).
Ну а что же модернизация? В историософском контексте вопрос о самой возможности российского модерна может оказаться вопросом не по существу. Однако так или иначе, российскому модерну (либо внемодерну) нужно вписываться в созвездие современностей XXI в. Соответственно, и формирование российской идентичности, понимаемое как проект, должно включать себя компоненты, облегчающие решение этой задачи. В теоретико-методологическом плане здесь представляет интерес концепция «самопонимания» (self-understanding), которую предлагает П. Вагнер (31). Самопонимание не является неизменным для того или иного общества на протяжении веков; оно указывает на качественные трансформации, происходившие в недавнем прошлом. Речь идет не о фундаментальных культурных программах, на которых фокусирует внимание Ш. Эйзенштадт, а о продолжающемся процессе более или менее коллективного осмысления специфической ситуации конкретного социума в свете значимого опыта прошлого. Предлагаемый Вагнером подход ориентирован на демонстрацию того, как процессы социальной реинтерпретации исторического опыта и межличностной коммуникации по поводу базовых правил и ресурсов воздействуют на институциональные изменения. Иначе говоря, речь идет о связи между культурно-интерпретативными и социально-политическими трансформациями, к числу которых, по-видимому, должна относиться и нынешняя российская модернизация.
Можно говорить, по крайней мере, о трех основных аспектах социального самопонимания – эпистемическом, политическом и экономическом. Эпистемическая проблематика отражает специфику знаний людей о самих себе, об общественной жизни и о природе. Проекция этой проблематики на социально-политическую сферу позволит в дальнейшем выявить ее значимость для данной сферы и – в более широком смысле – для сплочения общества и его адаптации к модерну.
Центральным для идентификации политической проблематики является соотношение коллективных интересов и индивидуальной автономии. Автономия как базовая категория модерна оставляет значительное пространство для интерпретаций индивидуальной автономии (свобода от принуждения или от господства) и коллективной автономии (демократия). Политическая проблематика, кроме того, охватывает различные модальности участия в процессе принятия политических решений и варианты агрегирования коллективных интересов.
Экономическая проблематика сфокусирована на вариантах наилучшего удовлетворения материальных потребностей общества. Наряду с собственно экономическими категориями, например категорией производственной эффективности, здесь обнаруживается связь с социальными ценностями и нормами, их возможной иерархией (31).
Действия социальных акторов, основанные на реинтерпретации базовой эпистемической, политической и экономической проблематики, могут рассматриваться как мобилизация культурных ресурсов, как проявление социальной креативности. В случае России подобный процесс социального самопонимания мог бы означать попытку формирования модернизационной (или хотя бы открытой модерну) национально-государственной идентичности. Успех этой попытки далеко не гарантирован, но, по крайней мере, это был бы качественно новый этап по сравнению с тем, когда и модернизация, и национальная идентичность остаются внутренними проектами Русской системы. В конечном счете задача формирования модернизационной национально-государственной идентичности одной российской властью никогда не решится. Власть может дать толчок, пытаться контролировать ход дискуссии и направлять его в нужное русло. Но важнейшая роль здесь будет принадлежать интеллектуальной элите, массмедиа, русскоязычному коммуникативному универсуму, – короче говоря, российской Öffentlichkeit. Как подчеркивает А.И. Миллер: «Именно постоянная общественная дискуссия по проблемам нации и есть один из способов воспроизводства национальной идентификации, а также достижения и воспроизводства консенсуса основных политических сил по базовым вопросам в данной сфере» (13).
Российскому обществу, его стратам и группам, отдельным индивидам действительно не хватает самопонимания. Именно самопонимание является важнейшей предпосылкой двух вещей, необходимых для формирования современной нации, – ответственности и солидарности. И любой стратегический проект, обращенный к российскому обществу, может рассчитывать на успех лишь в том случае, когда его опорами станут социальная ответственность и социальная солидарность.
Литература1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. – М.: Канон-Пресс-Ц / Кучково поле, 2001.
2. Бжезинский З. Последний суверен на распутье // Россия в глобальной политике – М., 2006. – № 1.
3. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. – М.: Изд. дом «Территория Будущего», 2006.
4. Гофман А.Б. От какого наследства мы не отказываемся? Социокультурные традиции и инновации в России на рубеже XX–XXI веков / Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия и динамики. – М.: РОССПЭН, 2008.
5. Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003.
6. Закария Ф. Будущее свободы. Нелиберальная демократия в США и за их пределами. – М.: «Ладомир», 2004.
7. Закария Ф. Постамериканский мир будущего. – М.: Издательство «Европа», 2009.
8. Ильин М.В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий. – М.: РОССПЭН, 1997.
9. Исаков В.Б. Амнистия. Парламентские дневники 1994–1995. – М., 1996.
10. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. Философия и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). – М.: Республика, 1996.
11. Малинова О.Ю. Oбразы России и «Западa» в дискурсе власти (2000–2007 гг.): попытки переопределения коллективной идентичности / Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация. – М.: ИМЭМО РАН, 2008.
12. Малинова О.Ю. Тема России и «Запада» в риторике президента В.В. Путина: попытка переопределения коллективной идентичности // Два президентских срока В.В. Путина: Динамика перемен / Отв. ред. и сост. Н.Ю. Лапина. – М.: ИНИОН РАН, 2008.
13. Миллер А.И. Нация как система координат политической жизни. Устойчивое существование государства невозможно без националистического дискурса // Вестник российской нации. – 2009. – № 4.
14. Патрушев С.В. Варианты универсализации институционального порядка // Форум 2003. Социум и власть. – М., 2003.
15. Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика. Заметки историка о причинах неудачи демократического транзита // Полис. – 2006. – № 1.
16. Пивоваров Ю.С. Русская политическая традиция и современность. – М.: ИНИОН РАН, 2006.
17. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская система // Рубежи. – М., 1995. – № 1–6.
18. Пляйс Я. А. «Суверенная демократия» – новый концепт «партии власти» // Демократия в современном мире. – М.: РОССПЭН, 2009.
19. Путин призывает не допустить украинизации политической жизни в РФ. – Режим доступа: http://www.rian.ru/politics/20100122/205792006.html (Последнее посещение – 17.02.2010).
20. Русская мысль. – 1994. – 2–8 июня.
21. Сурков В. Национализация будущего. Параграфы pro суверенную демократию. – Эксперт. – № 43 (537). – 20 ноября 2006 г.
22. Тишков В. А. О российском народе // Дружба народов. – М.: 2006. – № 8.
23. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. – М.: 2001. – № 1–2.
24. Beck U., Grande E. Cosmopolitanism: Europe’s way out of crisis // European J. of Soc. Theory. – L.; Thousand Oaks, CA; New Delhi, 2007. – Vol. 10. – N 1.
25. Beck U., Grande E. Cosmopolitan Europe. – Cambridge: Polity Press, 2007.
26. Dahrendorf R. Die Sache mit der Nation // Jeismann M., Ritter H. (Hrsg.). Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus. – Leipzig: Reclam, 1993.
27. Eisenstadt S. N. Multiple modernities // Daedalus. – 2000. – Vol. 129. – N 1.
28. Krauthammer Ch. The unipolar moment // Foreign affairs. – Vol. 70. – N 1. – Winter 1990/1991.
29. Renan E. Qu'est-ce qu'une nation? – P.: Mille et une nuits, 1997.
30. Sternberger D. Verfassungspatriotismus // Sternberger D. (Hrsg.). Verfassungspatriotismus. – Frankfurt a. M.: Insel, 1990.
31. Wagner P. Multiple trajectories of modernity: Why social theory needs historical sociology // Thesis Eleven. – N 100. – February 2010.
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
А.Ю. ШевяковШевяков Алексей Юрьевич – доктор экономических наук, профессор, директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАНОстрые социально-экономические диспропорции, негативные демографические процессы (смертность, почти двукратно превышающая рождаемость и более чем двукратно превышающая смертность в развитых странах, низкая продолжительность жизни, депопуляция и продолжающий снижаться средний уровень человеческого и социального капитала) сегодня представляют серьезную угрозу социально-политической, экономической и демографической ситуации в стране, особенно в условиях развивающегося кризиса, который еще более обостряет проблемы социальной сферы. Вкладываются огромные средства для изменения создавшегося положения, но ожидаемых успехов это не приносит5.
В основе сложившейся ситуации лежат несколько фундаментальных причин, которые не осознаются или не принимаются во внимание правительством при осуществлении социальной политики. Именно это определяет ее неэффективность. Решение проблемы лежит в другой плоскости. Дело в том, что у нас социальная политика базируется на ложных парадигмах и мифах6.
Миф 1. До сих пор господствует либеральная точка зрения, согласно которой рыночные механизмы, так же как и в экономике, для социальной сферы являются более эффективными. В соответствии с этой позицией в течение всех предыдущих лет реформ государственная социальная политика была направлена на уход государства из социальной сферы и насаждения в ней рыночных отношений7. Принципиальное же отличие государства от рыночной корпорации состоит в том, что цели и задачи государства значительно шире чисто экономических. Государство выстраивает социальный порядок, создавая и поддерживая институты, регулирующие социальную конкуренцию и социальный отбор. Государство управляет социальной стратификацией, создавая или поддерживая статусные приоритеты, необходимые в интересах долговременного развития общества. Иными словами, оно призвано совершенствовать институциональную и социальную структуру общества согласно критериям, основанным на ценностях, выработанных человечеством в историческом процессе отбора идей путем многочисленных проб и ошибок, – ценностях, которые, ограничивая текущие предпочтения, позволяют минимизировать ошибки по отношению к будущему. Государство призвано это делать, но не делает в фазе «турбулентных» политических и социально-экономических преобразований, направленных на «модернизацию» институтов путем имитации системы, сложившейся в более преуспевающих странах. «Экономическая стабилизация» после предшествующих шоков была определенным достижением. Но в России давно назрела необходимость реформ, основанных на рациональном предвидении и на интенсивном использовании своего интеллектуального потенциала, а не на заимствовании институциональных «рутин», которые в развитых странах отнюдь не играют такой роли, какая им вменяется в осуществленных и планируемых российских реформах.
Рыночная экономика эффективна настолько, насколько эффективность обеспечивается свободой трансакций и ценовыми сигналами. Но не в упрощенной теории, а в реальном обществе есть широкий спектр некоммерческих видов деятельности, которые необходимы и для существования, и для эффективности рынка, неценовые сигналы со стороны которых рынок никак не воспринимает. Суть дела в том, что экономические и социальные отношения регулируются не только рынком и не столько рынком, сколько фундаментальной системой институтов, определяющей мотивацию экономического и социального поведения, пропорции между доходами различных социально-профессиональных групп и масштабы экономического неравенства. Поддержка этой системы институтов является неотъемлемой функцией государства.
Вместе с тем в российской институциональной среде за годы реформ, направленных на повсеместное введение рыночных отношений, произошел распад нерыночных, в том числе государственных институтов, регулирующих статусы различных социально-профессиональных слоев общества.
Соответствующая институциональная среда ориентирует собственников, предпринимателей и государство на кратковременные экономические интересы. В условиях, когда социальный статус определяется уровнем дохода независимо от того, каким образом этот доход был приобретен, мотивация экономического и социального поведения сводится к форсированию ближайших выгод. В отсутствие сильных внерыночных институтов это оказывает давление на государство, побуждая его подстраиваться под складывающуюся ситуацию. Поэтому государство, которое не обеспечивает достаточной поддержки основополагающим внерыночным институтам, в конечном итоге само оказывается слабым.