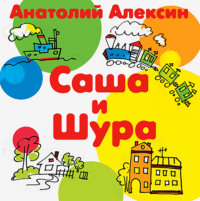Полная версия
Мой брат играет на кларнете (сборник рассказов)
И вообще он очень хотел умереть.
Жить не стоит,В том нету сомнений!Сердце в муке сгорело дотла,Когда ты на большой переменеК старшекласснику вдруг подошла.Над этим стихотворением стояли две буквы: «А. Я.». А в поэме, первое чтение которой состоялось у нас в уборной, на втором этаже, были такие слова:
Умереть, умереть, умереть!Мне во прах превратиться не жалко,Чтоб уже никогда не смотреть,Как с другим ты идешь в раздевалку…Под названием поэмы тоже стояли две буквы: «Б. Ю.». Нам очень хотелось узнать, из-за кого Покойник так ужасно страдал. Мы проверили по классному журналу; девчонок с такими инициалами у нас в классе не было.
– Может, из другой школы?.. – высказал кто-то предположение.
Внезапно меня озарила догадка:
– Нет! Они обе из нашей школы: иначе бы он не видел, как А. Я. на большой перемене подошла к старшекласснику и как Б. Ю. спустилась с другим в гардероб!
– Это верно!.. Настоящий Детектив: какая сила логического мышления! – стали восторгаться ребята. Только Принц Датский сказал:
– Не трогайте Покойника!.. Кто его тронет, тот будет иметь дело со мной.
И хотя большая физическая сила сочеталась в нем с детской застенчивостью, все знали: Покойника он в обиду не даст. Он уважал его, потому что сам не умел писать стихов о любви.
– А только это и есть истинная поэзия! – воскликнул как-то Принц Датский. – Все классики с раннего детства писали о любви. Таланты надо беречь!
Это было его яркой особенностью: восторгаться другими.
– Почему же ты сам сочиняешь стихи к разным датам? – спросил я Принца.
– Людям приятно, когда их поздравляют… Особенно в рифму, – ответил он.
– А ты пиши и о любви тоже!
– Чтоб писать о ней, надо ее испытать, – ответил Принц Датский. – К Покойнику уже пришло его счастье, а ко мне еще нет.
К Покойнику это счастье приходило уже в третий раз. Вообще он вел рассеянный образ жизни. Все свои последние стихотворения он посвящал какой-то В. Э. Она еще не спускалась с другим в гардероб, но Покойник все равно жить не хотел:
Умереть мое сердце готово,Разорваться в груди, как снаряд,За одно твое нежное слово,За один твой доверчивый взгляд.Я набрался мужества и спросил:
– Скажи: кто она… В. Э.?
– Разве это не было бы чудовищно?..
– Что… чудовищно?..
– Разве я могу открыть ее имя?
– А почему?
– Тебе непонятно?
Это было его яркой особенностью: отвечать на вопрос вопросом.
– Но почему же? – настаивал я.
– Разве мужчина имеет на это право?
В его чахлой груди билось пылкое, благородное сердце!
Принца с Покойником сразу приняли в литературный кружок.
Попросилась в кружок и Валя Миронова.
Это было белокурое существо лет двенадцати с половиной. То есть в прошлом году, когда создавался кружок, все мы были на год моложе… Но в той страшной истории, которую я хочу рассказать, это не играет существенной роли.
Миронова была самым белокурым и самым старательным существом у нас в классе. Она, казалось, всегда думала об одном: как бы ей в чем-нибудь перевыполнить норму.
Если учительница задавала на дом решить семь арифметических примеров, Миронова поднимала руку и спрашивала:
– А восемь можно?
Если другая учительница просила сдать домашнее сочинение через четыре дня, Миронова поднимала руку и спрашивала:
– А через три можно?
Думая о человеке, всегда мысленно представляешь его себе в самой характерной для него позе. Ну, например: Глеб Бородаев вынимает из своих растопыренных карманов бутерброд с колбасой и кормит собаку; Принц Датский, несмотря на свой огромный рост и свою силу, застенчиво протягивает листок со стихами, которые кому-то должны быть приятны; Покойник ходит по коридору с бледным лицом и мечтает погибнуть… А Миронову я всегда представляю себе с поднятой рукой: она хочет, чтобы ей разрешили перевыполнить норму. Если врач скажет: «Тебе нужно сделать десять уколов!» – Миронова, я думаю, обязательно спросит: «А можно одиннадцать?» Как только Святослав Николаевич объявил о кружке, Миронова сразу подняла руку и сказала:
– Можно мне записаться?
– А что ты будешь сочинять?
– Что вы скажете… – ответила Миронова.
Это было ее яркой особенностью: подчиняться приказам.
– Поэзия, – сказал Святослав Николаевич, – это сфера чувств, там конкретность не обязательна. Проза – другое дело. В прозе каждый должен писать о том, что он лучше всего знает. А с чем ты, Миронова, сталкиваешься ежедневно? Со школой, с уроками, с домашними заданиями, со своими соседями и одноклассниками. Вот об этом и напиши. Начни, к примеру, с литературных зарисовок: «Мое утро», «Мой вечер»…
Миронова подняла руку и спросила:
– А можно «Мой день»? Это ведь будет и утро, и полдень, и вечер – все сразу!
Она и тут хотела перевыполнить норму.
– Пожалуйста, – сказал Святослав Николаевич. – Если тебя влечет такая именно тема, не возражаю. Зачем же наступать на горло собственной песне! Но только побольше конкретных деталей, подробностей. Пусть острая наблюдательность подскажет тебе все это. Принеси зарисовку дней через пять.
– А можно через четыре? Или через три дня? – спросила Миронова, предварительно подняв руку. По привычке она, как на уроке, поднимала руку, даже если разговаривала с кем-нибудь в коридоре или на улице.
Через три дня она принесла зарисовку «Мой день». Начинала Миронова так:
Я проснулась в семь часов десять минут по местному времени. Было утро. Я умылась на кухне, потому что в ванной комнате мылся сосед. На кухне у нас стоят два стола, потому что в квартире живут две семьи: у каждой по одному столу. На кухне два окна: одно выходит лицом на улицу, а другое – лицом во двор. В семь часов тридцать минут по местному времени я съела одно яйцо всмятку, один бутерброд с сыром и выпила один стакан чая с сахаром. Так начался мой трудовой день…
Святослав Николаевич похвалил Миронову:
– Много конкретных, тебе одной известных деталей!..
Миронову приняли в литературный кружок.
– Ну, а над чем ты будешь работать дальше? – спросил Святослав Николаевич.
– Над чем скажете…
В ее груди билось послушное женское сердце!
Трех человек уж приняли. Но этого было мало. И тогда Святослав Николаевич предложил вступить в кружок Наташе Кулагиной.
Это было самое замечательное существо в нашем классе. И во всей школе. И во всем городе!
Ростом она была такой, как надо… Да что говорить!
От самого дня рождения я никогда не был ветреником. И никогда не вел рассеянный образ жизни. Наоборот, постоянство было моей яркой особенностью: Наташа нравилась мне с первого класса. Она была полна женского обаяния. На переменках девчонки липли к ней со всех сторон: каждой хотелось походить с ней по коридору под руку. Это меня устраивало: если уж не со мной, так пусть лучше с ними!
Наташа часто записывала что-то в толстую общую тетрадку. Когда Святослав Николаевич пригласил ее в кружок, она сказала:
– Я не сочиняю, а просто записываю мысли. Так, для себя. О фильмах, о книгах…
– Это должно быть любопытно, – важно изрек Покойник. – Ты ведь и классные сочинения всегда пишешь оригинально, по-своему.
– Старик Покойник нас заметил и, в гроб сходя, благословил! – сказал я с плохо скрываемым раздражением.
Мне не понравилось, что Покойник хвалил Наташу. Не хватало еще, чтоб над очередным его стихотворением появились новые буквы: «Н. К.».
– О книгах, о фильмах?.. – переспросил Святослав Николаевич. – Значит, у тебя критическое направление ума! Вот и прекрасно. Нам нужны разные жанры. Поэзия и проза уже представлены. А теперь вот и критик! Будешь оценивать произведения членов кружка. Если острая наблюдательность подскажет тебе недостатки товарищей…
– Но я ведь просто записываю свои мысли… Что ж, я буду высказывать их вслух?
– А ты высказывай не свои, – посоветовала Миронова. – Поговори со Святославом Николаевичем, еще с кем-нибудь. Учебники почитай.
Наташа словно бы не расслышала ее слов.
– Нет, я не могу оценивать чужие произведения, – сказала Наташа. – С глазу на глаз могу. А так, в торжественной обстановке… Я не могу себе это позволить.
– Для начала послушай, – сказал Святослав Николаевич. – А потом творческий поток захлестнет тебя, увлечет в свое русло!
Она могла бы позволить себе все, что угодно, потому что ее считали самой красивой в классе. Но она не позволяла: в ее груди билось прекрасное сердце!
Через десять минут я попросился в литературный кружок.
– Ты тоже пробуешь силы в творчестве? – удивленно спросил Святослав Николаевич.
– Я хочу писать детективные повести…
– Прыгаешь через ступени?
– Как это?
– Нужна постепенность: сперва зарисовки, потом рассказы, а потом уже повести. Впрочем, не хочу наступать на горло твоей песне. Ты уже что-нибудь сочинил?
– Предисловие… И еще кое-какие наброски.
Все это я показал сперва папе, а потом Святославу Николаевичу. Тогда я еще не знал, какая страшная история вскоре произойдет, и в предисловии об этом ничего написано не было.
– Твои портретные характеристики несколько однообразны, – сказал папа, – а эпитеты, думается, крикливы. Ты подражаешь высоким, но старым образцам. Так уже нынче не пишут. Это не модно.
– Но ведь моды меняются, – возразил мой брат Костя. – Раньше носили длинные пиджаки, потом стали шить короткие, а теперь опять носят длинные…
В пиджаках Костя разбирался – у нас дома его считали пижоном.
– Да, я согласен, – сказал папа. – Мода – вещь переменчивая. И потом, первый опыт… Первый блин!
Святославу Николаевичу мой первый «блин» очень понравился.
– Кое-где ты продолжаешь благородные традиции рыцарских романов. В смысле стиля, конечно, – отметил он. – Могут сказать, что это несовременно…
– Мода – вещь переменчивая! – воскликнул я.
– Безусловно. К тому же я не хочу наступать на горло ни одной вашей песне! Острая наблюдательность тебе многое подсказала. И еще подскажет! Так что… Теперь в кружке уже…
– Пять человек! – быстро подняв руку, сказала Миронова.
Это было ее яркой особенностью: она любила подсказывать учителям.
– Нет, в кружке будет шесть членов, – поправил ее Святослав Николаевич. – Пять обыкновенных и один почетный: внук Бородаева!
Радость озарила усталые глаза Святослава Николаевича и его бледное, не всегда гладко выбритое лицо. Он не знал, к каким ужасным событиям это все приведет!..
И у меня на душе не было даже легкой тени тревоги. Даже смутное предчувствие чего-либо плохого не посетило, не коснулось меня в ту минуту.
Я радовался, как ребенок, что буду в одном кружке с Наташей Кулагиной! Я ликовал, как дитя!..
Глава II,
в которой мы неумолимо приближаемся к страшной истории, хотя этого можно и не заметить
О, какие легкомысленные, поспешные выводы мы порой делаем!
Я всегда думал, что почетный участник чего-либо – это такой участник, который в отличие от обыкновенных участников может абсолютно ни в чем не участвовать. Но это было жестокое заблуждение.
Именно Глебу поручили организовать у нас в классе «Уголок Бородаева».
– Мне как-то… Самому-то… Это вроде не очень… – не договаривая фраз, отказывался Глеб.
– Заблуждение! – воскликнул Святослав Николаевич. – Неверное понимание… Дети и внуки выдающихся личностей всегда пишут мемуары, воспоминания, открывают и закрывают выставки. Одним словом, чтут память. Кому же и чтить, как не им?
Острая наблюдательность подсказала мне, что Глеб писать мемуары не собирался и вообще ему было как-то не по себе. Но он все же принес фотографию, на которой его дедушка был изображен в полный рост.
Это был мужчина лет шестидесяти или семидесяти. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что в молодости люди меняются каждый год, а у старых людей трудно определить возраст. Ростом он был невысок, в плечах неширок.
– Почти все крупные личности выглядят хилыми и некрупными, – объяснил Святослав Николаевич. – Природа устремляет свое внимание либо на мышцы, либо на мозговые извилины. На то и другое у нее не хватает сил.
У Бородаева не было бороды. У него были усы.
– Отталкиваясь от своей фамилии, писатель мог бы отпустить бороду, – сказал Святослав Николаевич. – Но он не пошел по пути наименьшего сопротивления! Отсюда мы делаем вывод, что он не придавал значения внешним факторам, а только внутренним, то есть смотрел в существо, в глубь, в корень событий.
«Уголок Бородаева» расположился между подоконником и классной доской.
Здоровенный Принц Датский один приволок огромный фанерный стенд. В центре поместили фотографию писателя, под которой был указан год рождения и через черточку – год смерти. Черточка была короткая, а жизнь Гл. Бородаева была очень длинная: он скончался на восемьдесят третьем году жизни.
На стенде поместили любимые книги покойного писателя, которые Глеб тоже принес из дому. На каждой обложке стоял лиловый штамп: «Из личной библиотеки Гл. Бородаева».
Оказалось, что писатель любил детективы. И не стеснялся своей любви. Я сразу понял, что в его груди билось честное, благородное сердце.
Были тут и книги самого Гл. Бородаева. На них тоже стояли лиловые штампы.
Опытный глаз мог бы безошибочно определить, что чаще всего у писателя брали почитать его повесть, название которой заставило меня вздрогнуть: «Тайна старой дачи». Она была самой затрепанной.
– Детектив? – шепотом спросил я у Глеба. Он утвердительно мотнул головой.
– Дай почитать…
– Но это же экспонат! – вмешался стоявший рядом Покойник. И лениво кивнул на плакат, вывешенный Мироновой: «Руками не трогать!»
– Тебя не касается! – ответил я Покойнику с плохо скрываемым раздражением. И вновь обратился к Глебу: – На одну только ночь!
– Хорошо, возьми, – сказал Глеб громко и внятно, как почти никогда раньше не говорил.
Мне показалось, ему было приятно, что он может разрешить, а мог бы и запретить. Но потом я подумал: «Нет, у него такой гордый вид просто потому, что я хочу почитать книгу его дедушки. Я бы тоже гордился. Это вполне естественно!» Повесть произвела на меня огромное впечатление. В предисловии было написано, что «она относится к позднему периоду творческой деятельности Гл. Бородаева». Значит, на старости лет он вдруг полюбил детективы. А мои родители уверяли, что увлечение детективами – «это мальчишество». О, какие легкомысленные, поспешные выводы мы порой делаем!..
Да, «Тайна старой дачи» меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной литературе: убийство и расследование.
Зимой на даче пропал человек. Исчез, испарился, как будто его и не было!
Это случилось ночью. Прямо под Новый год! Все окна и двери были заперты изнутри. Утром на снегу не нашли никаких следов. На протяжении трехсот двадцати трех с половиной страниц пропавшего искали следователи, собаки и родственники. Но напрасно… Это был единственный детектив из всех, которые я читал, где преступников не поймали.
В послесловии было написано: «Итак, преступников не обнаружили… Но зато обнаружила себя творческая индивидуальность автора! Он не пошел проторенным путем. В повести не найдешь «чужих следов», как не было их возле старой дачи после таинственного исчезновения… «Тайна старой дачи» так и осталась тайной. Зато читателю есть над чем поразмыслить!» Я размышлял несколько дней.
Глеб сказал, что дедушка описал дачу, на которой прошли последние годы его жизни.
– Детективный период? – спросил я.
– Нет, он только одну эту книгу… Больше он ни одной… Это была последняя…
– Лебединая песня! – воскликнул оказавшийся рядом Покойник. Он любил встревать в чужой разговор.
– Вот бы съездить на эту дачу! – сказал я.
– Всего час… Если на электричке… – ответил Глеб.
– Экскурсия на место событий? – усмехнулся Покойник. Убийства Покойника не волновали: он привык думать о смерти.
Святослав Николаевич сказал, что «Уголок Бородаева» необходимо украсить семейными фотографиями. На следующий день Глеб принес старую карточку, на которой усы у Гл. Бородаева почти совсем выцвели, лицо пожелтело. Он сидел в центре, а рядом стояли какие-то люди. Святослав Николаевич спросил у Глеба, кем они приходятся писателю. Глеб не знал.
– Вот наш кружок и прикоснется к поиску, к литературному исследованию! – воскликнул Святослав Николаевич. – Узнай дома, кто запечатлен фотографом на этой семейной реликвии.
Когда через три дня фотографию поместили на стенде, под ней была подпись:
«Писатель Гл. Бородаев в кругу близких. Слева направо: сосед писателя, соседка (жена соседа), брат жены писателя, жена брата жены, друг детства писателя, жена друга детства (вторая), дочь друга детства, сын друга детства, сын сына друга детства…»
Это были результаты исследования, которое провел Глеб.
– А сам-то ты где? – спросила у Глеба Миронова, которой поручили делать подписи под семейными реликвиями. У нее был самый разборчивый и красивый почерк.
– Я с дедушкой никогда… Я был еще маленький… – ответил Глеб.
– Ну что-о же ты? – печально протянула Миронова. – Ка-ак же ты так?
На следующий день Глеб принес фотографию, где он сидел в гамаке рядом с каким-то мужчиной. Опытный глаз мог бы заметить незаметное сходство между мужчиной и Глебом.
– Это папа, – объяснил Глеб. – А это вот я…
Под фотографией сделали подпись:
«Слева направо: сын писателя, сын сына писателя».
Тогда Глеб принес еще три семейные реликвии: он был снят с дядей и тетей, с сестрой и братом, с двоюродным братом и двоюродной сестрой. Все его сразу узнавали на фотографиях:
– Вот он! Ну как же… Вот он, присел на корточки! Почти что не изменился.
Миронова интересовалась, кем точно родственники, изображенные на фотографиях, приходятся Гл. Бородаеву, и делала подписи.
Часто к нам стали забегать ребята из других классов.
– Кто это у вас тут внук писателя? – спрашивали они. Мы указывали на Глеба.
Сперва он пригибался к парте, словно хотел залезть в нее от смущения. Но потом стал выпрямляться, уже не прятался, а протягивал руку и говорил:
– Очень приятно. Давайте знакомиться!..
Однажды на какой-то конференции старшеклассников Глеба выбрали в президиум. И объявили, из какого он класса. Чувство законной гордости возникло в наших сердцах! Если кто-нибудь теперь говорил, что не знает Гл. Бородаева, не читал его книг, мы возмущались: «Это позор! Каждому культурному человеку известно…» На разных школьных собраниях нас начали ставить в пример другим:
– В этом классе умеют чтить память знатного земляка! В этом классе любят литературу!..
– Каждый класс, как и человек, должен иметь свое лицо, свою индивидуальность, – объяснял Святослав Николаевич. – Раньше у нас этой индивидуальности не было. Теперь она у нас есть!
– Ты заметил, что Глеб стал говорить не хуже, чем мы с тобой? – спросила меня как-то Наташа Кулагина.
«…Мы с тобой», – сказала она. Сердце мое забилось. Я смотрел на нее с плохо скрываемой нежностью.
– Теперь он все фразы дотягивает до конца. Ты заметил?
Когда она обращалась ко мне, я всегда хотел сказать ей в ответ что-нибудь умное. Но ничего умного мне на ум в такие минуты не приходило. И я отвечал: «О, как ты права! Я думаю то же самое!..»
– О, как ты права! – ответил я ей и на этот раз. – Глеб стал говорить так же прекрасно, как мы с тобой. Я тоже заметил.
– Слава, оказывается, излечивает человека от застенчивости, от робости, – сказала Наташа.
А я подумал: «Эту мысль она обязательно запишет в свою тетрадку. Она рада, что Глеб излечился: ведь болезнь – это плохо, а излечение – всегда хорошо!»
– Он по-прежнему кормит собак? – спросила Наташа.
– Я не следил… Но я это узнаю! Клянусь, я это выясню для тебя! – крикнул я с плохо скрываемым волнением, потому что давно мечтал сделать что-нибудь для нее, выполнить ее задание или просьбу.
– Не надо узнавать, – сказала Наташа. – Может быть, ему сейчас некогда?
– О, конечно! Ведь его даже на общешкольные конференции приглашают!.. – воскликнул я.
И сразу же пожалел, что воскликнул. «Почему она так интересуется Глебом? Женщины любят знаменитостей. Я где-то читал об этом… Может быть, и она?..» Эта мысль заставила меня похолодеть. Но лишь на мгновение. «Нет, она не такая!.. – сказал я себе. – Просто она патриотка нашего класса. А Глеб принес классу известность, вот она и интересуется». Ревность, которая готова была со страшной силой вспыхнуть в моей груди, уступила место доверию.
Однажды на уроке литературы, когда до звонка оставалось минут пятнадцать, Святослав Николаевич сказал:
– Сегодня Глеб по моей просьбе приготовил для нас всех небольшой сюрприз: он прочтет несколько писем своего дедушки. Они адресованы родным и близким писателя. Эти материалы из семейного архива представляют большую ценность: нам станет ясен круг интересов писателя, мы заглянем в мир его привязанностей, его увлечений.
Глеб, который раньше умирал от смущения, когда его вызывали к доске, на этот раз твердой, уверенной походкой прошел между рядами парт и сел за учительский столик. Святослав Николаевич уступил ему место.
О каждом письме Святослав Николаевич говорил, что оно «очень показательно».
Если письмо было длинным, он восклицал:
– Как это показательно! Несмотря на свою занятость, писатель находил время вникать в мельчайшие проблемы быта. Отсюда мы можем понять, что он никогда не отрывался от жизни, которая питала его творчество.
Если же письмо было коротким, напоминало записку, Святослав Николаевич восклицал:
– Как это показательно! Краткость, ни одного лишнего слова… Отсюда мы можем понять, как занят был писатель, как умел дорожить он каждой минутой!
В другой раз, в конце урока литературы, Святослав Николаевич сказал:
– Давайте попросим Глеба Бородаева вспомнить какие-нибудь истории из жизни его дедушки.
Глеб опять прошел между рядами своей новой, твердой походкой, опять сел за учительский столик. Но ничего вспомнить не мог. Весь урок я боялся, что Святослав Николаевич вызовет меня к доске, и поэтому закричал:
– Поду-умай, Глеб! Вспомни что-нибудь!.. Это так интересно. Так важно!
– Вспо-омни! – стали умолять его и другие, которые боялись, что их вызовут отвечать.
– Вот видишь, какой интерес к биографии твоего дедушки, а значит, к литературе, – сказал Святослав Николаевич.
Глеб вспомнил, что однажды ходил с дедушкой в магазин. До звонка оставалось еще минут десять.
– А что вы там покупали? – закричал я. – Это так показательно!
Глеб продолжал воспоминания…
В следующий раз мы с ребятами сами стали просить на уроке литературы:
– Пусть Глеб вспомнит еще что-нибудь. Пусть он расскажет!..
– Возникает живое общение с писательским образом! – сказал Святослав Николаевич.
Глеб вспоминал одну историю за другой. В его груди продолжало биться честное, благородное сердце, готовое прийти на помощь товарищам.
Ценность творчества Гл. Бородаева возрастала в наших глазах с каждым часом!..
Глава III,
в которой мы делаем еще несколько шагов навстречу страшной истории
Все, о чем вы прочитали в первых двух главах, было моим далеким воспоминанием: это случилось в прошлом году.
А в этом году Святослав Николаевич нас покинул. Раньше, когда мы делали что-нибудь не так, как ему бы хотелось, Святослав Николаевич предупреждал:
– Я сбегу на пенсию, если вы решительно не изменитесь!
А прощаясь с нами, он был не в силах сдержать волнение. Слезы душили его и чуть было не задушили совсем. Миронова подняла руку и спросила:
– Вам плохо?
– Нет, мне хорошо! – ответил Святослав Николаевич. – Хорошо оттого, что я осознал чувства, которые испытываю к вам. Я знал вас всего год, но не забуду никогда… Никогда! Говорят, первая любовь – самая сильная, а я думаю, что последняя!..
Мы были его последней любовью! Чувство законной гордости возникло в наших сердцах.
Вместо Святослава Николаевича к нам пришла Нинель Федоровна.
Это было стройное существо лет двадцати пяти. Может быть, об учительнице так говорить нельзя? Но она была совсем не похожа на учительницу. И когда шла на переменке по коридору, ее вполне можно было принять за ученицу десятого или даже девятого класса. Выражение лица у нее было такое, что казалось, она вот-вот расхохочется. Я никогда не встречал на лицах учителей такого странного выражения. За глаза ее никто не называл по имени-отчеству, а все стали звать просто и коротко: Нинель.
Когда Нинель Федоровна пришла к нам в первый раз, она сразу обратила внимание на стенд, который был между подоконником и классной доской. Увидела огромную фотографию и спросила:
– А кто это такой, Гл. Бородаев?
Мы просто похолодели и приросли к своим партам. Только Миронова не растерялась. Она любила подсказывать учителям. И тут тоже подняла руку, встала и объяснила: