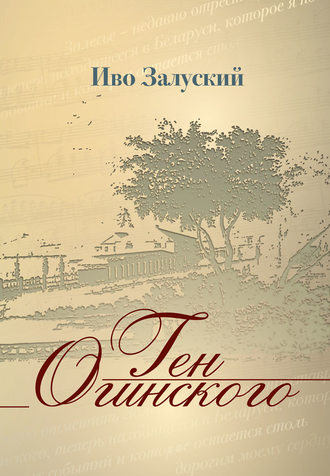
Полная версия
Ген Огинского
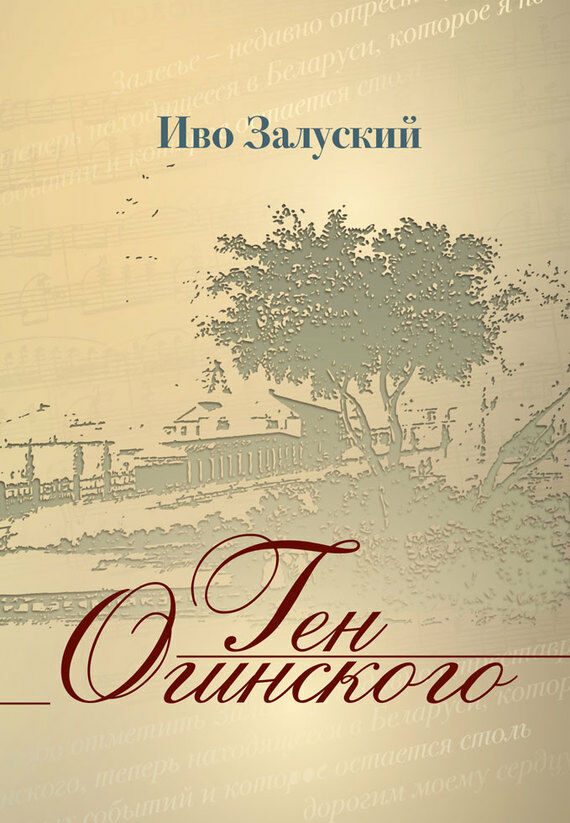
Иво Залуский
Ген Огинского
© Залуский Иво, 2006, 2015
© Перевод. Плютов В. С. (гл. 1–9), Ноздрина В. А. (гл. 10–16), 2006
© Оформление. Издательство «Четыре четверти», 2016

Иво Залуский. Рисунок М. Сикорского
Глава 1
Кратким именем нареченный
Сентябрь 1992 г.
Проезжая мимо знака, указывающего направление на Ивонич-Здруй, курорт в Прикарпатье на юго-востоке Польши, я почувствовал любопытство, смешанное с благоговейным страхом. С 1837 года в Ивониче находилось имение Залуских. В то время мой прапрапрадед Кароль Теофил Залуский перевез туда свою семью и начал эксплуатировать богатые природные источники, берущие начало на лесистых холмах. Меня назвали в честь имения Ивонич или скорее в честь прадяди с сомнительной репутацией, получившего свое имя от того же имения. При крещении в деревянной сельской церкви меня нарекли уменьшительным именем, чтобы рассеять нехорошую славу старого негодника. Этой надежде не суждено было сбыться – по крайней мере, в Польше: когда я был совсем маленьким ребенком, в мою страну пришли немцы и русские и стали делить ее на части. Рано утром 4 сентября 1939 года родители подняли меня с кровати, и мы отправились в бега. Лишь теперь, спустя десятилетия, наша семья, представители которой живут сейчас в Польше, Англии, Франции, Швейцарии и Дании, стала предпринимать различные действия, чтобы юридически оформить возвращение собственности, отнятой у нас коммунистами после Второй мировой войны.
Я воспитывался и учился в Англии, англизировался и женился на англичанке. В августе 1968 года мне довелось побывать в Польше в качестве туриста и увидеть, как громыхающие танки двигались на юг на подавление Пражской весны Дубчека. Вырвавшись на день из Кракова, я из любопытства заехал в Ивонич.
Красивый центр, действующий курорт, хорошие санатории, красивые места вокруг. Возле дома своего отца – шестнадцатикомнатного деревянного особняка с верандами и наружными лестницами, располагавшегося на густо заросшем холме, с которого была видна вся деревня, я щелкнул фотоаппаратом – уйти без снимка было бы просто неприлично…
С годами приходит потребность оглянуться, обратить взгляд в прошлое, чтобы заново осмыслить жизненные ценности. Достойно ли я носил свое краткое имя, данное при крещении? Можно ли сказать, что имя Иво и искупление грехов – синонимы? Итак, я почувствовал, что должен перенестись в туманное и далекое прошлое – к своим корням. Может ли мое наследие, которое столь долгое время оставалось лишь смутным видением в сознании, вновь стать реальностью? Я стал скупать календари, в которых рассказывалось о польских художниках, приобрел компакт-диски Карловича и Шимановского, нашел в букинистических магазинах книги Сенкевича в оригинале и принялся подправлять свой запущенный и нередко искаженный польский язык. Свою жену Памелу я попросил добавлять укроп чуть ли не во все ее блюда. Мне удалось купить старую карту Польши XVIII века – в те времена она простиралась от Балтийского моря до Украины. Я вставил ее в рамку и повесил в гостиной. Затем отыскал приветствие Падеревского, когда-то подаренное мне за хорошее исполнение «Революционного этюда» Шопена на школьном концерте, тоже вставил в рамочку и повесил его рядом.
Я отредактировал семейное генеалогическое древо, на составление которого мой отец потратил немало лет с тех пор, как вернулся в Польшу в 1970-е годы. Первые сведения о нашем роде датируются 1435 годом. У меня в воображении стали возникать эпические семейные саги. Романтика, приключения, герои, злодеи – все были в наличии и все было реально. Генерал Юзеф Залуский, приговоренный русскими к смертной казни в 1849 году за участие в революционных событиях; Анджей Залуский, краковский епископ и страстный библиофил, в честь которого сооружены часовня и бюст, находящиеся в Вавельском костеле; его брат Юзеф – он добавил свои книги к собраниям Анджея и помог создать крупнейшую в мире и одну из лучших библиотек в Варшаве XVIII столетия; импозантный Кароль Теофил Залуский, женившийся на загадочной княжне Амелии Огинской, с чьей помощью ему удалось сделать Ивонич фешенебельным водным курортом Восточной Европы. В моем роду я также обнаружил мальтийских рыцарей, папских прелатов, воинов и типичную горсть злодеев – среди последних значится и старый Иво. О нем, кстати, мало что известно, если не считать передаваемых из уст в уста дурных историй.
Словом, есть материал для целого повествования.
Я решил показать Памеле землю своих предков и проехать по следам Шопена, рассчитывая, что в перспективе мои изыскания закончатся написанием книги о путешествиях композитора. Маршрут нашей поездки прошел через Гожув, Торунь, Краков и повторил путь Шопена из Варшавы до курорта Душники на чешской границе, точно задокументированный самим композитором. Конечно же, не пропустили Ивонич.

Памела Залуская, 1960 г.
Мы въехали в Польшу через Франкфурт-на-Одере. Рискуя получить одобрение у молодых бритоголовых пруссаков, громко ратующих за возвращение территорий, переданных Польше после войны. Замечу, что я почувствовал себя на земле предков только за Гожынем, на полпути между Франкфуртом и Познанью. Лишь тогда меня стали охватывать смешанные чувства. Сначала показалось, что Польша та же, что и в 1968 году. Унылая картина все тех же мрачно-серых высотных домов, вокруг неухоженная трава с лысыми проталинами, тяжелый воздух. И все же чувствовалась разница. Ушли в прошлое бесконечные лозунги, прославляющие рабочий класс. Появились обнадеживающие признаки развития частного предпринимательства, стало больше цвета и рекламы, больше фантазии – и это скрашивало монохромную мрачность. По улицам все также с дерганьем двигались «фиаты», грузовики и автобусы изрыгали вонючий черный дым. Вместе с тем стали встречаться «мерседесы», БМВ и «ауди», на которых носились с сумасшедшей скоростью, игнорируя всякую опасность. Думаю, это переливалась через край энергия нуворишей. Я желал им добра и надеялся, что, как только эйфория от вновь приобретенного богатства пройдет, они станут спокойнее. Позже мне стало известно, что многие иномарки – ворованные: их украли в Германии и Дании и продали по дешевке в Польше. Сейчас ими управляли те же люди, которые до этого выдавливали из своих дергающихся, заправляемых 86-м бензином «фиатов» скорость 60 км/час.
Кроме того, легче стало найти место, где перекусить. Появились очень дешевые, зачастую отличные рестораны, а у дорог как грибы выросли разные закусочные. Вы можете подкрепиться борщом с мясными пирожками, потом вам подадут жаркое из свинины с лапшой и свеклой в сметанном соусе, причем все будет густо приправлено укропом. Перед мясным блюдом можно попробовать овощные салаты, на столе у вас будет также ржаной хлеб. Есть возможность заказать приличное пиво марки «Жывец» и кофе. Правда, во время еды, даже если единственными клиентами в зале будет супружеская пара средних лет, путешествующая по следам Шопена, обязательно звучит музыка в стиле рэп, и вам волей-неволей приходится ее слушать. Вообще, присутствие шума было невообразимым. На полную мощность ревели музыкальные центры, в одной и той же комнате работали два телевизора или показывали видео; уличные музыканты (не поверите – чилийцы!) состязались с ритмами техно-рока, доносившимися из магазинов. Лично я не переношу рэп и техно-рок, хотя и стал бы защищать (правда, не до последнего вздоха!) права любого, кто желает понаслаждаться этими творениями в тишине своего дома или в наушниках, причем, само собой разумеется, чистых тридцати ватт мощности вполне бы хватило. И все же, что за напасть обрушилась на уши народа, сделав их неспособными воспринимать громыхание и реагировать на него?
Варшавяне любят повторять, что наилучший вид на Варшаву открывается с крыши Дворца культуры и науки, поскольку это единственное место в городе, с которого самого Дворца не видно. Из нашего номера на 23-м этаже гостиницы «Форум» мы могли отлично видеть Дворец культуры и науки, который возникал под покровом коричнево-серой загрязненной атмосферы, словно «Затонувший собор» Дебюсси, окутанный пеленой морского тумана. Это примечательное здание, «подарок Сталина», пожалуй, являет собой самый яркий пример сталинско-бруталистского стиля архитектуры в Восточной Европе. Фактически оно мне даже нравится, хотя я признаю, что данное сооружение мешает видеть Варшаву такой, какая она есть. Впрочем, может быть, это не так уж и плохо, ведь Варшава – бетонные джунгли, обаяние которых вы особенно чувствуете, проезжая автомобильные развязки. Красота и история – они там внизу, но вы должны знать, где именно, и не обращать внимания на выхлопные газы. Мне постоянно приходилось напоминать себе, что нацисты на четыре пятых стерли Варшаву с лица земли. Может быть, моя память, словно предохранительный клапан, недостаточно прочно закрепила этот факт, и он наполняет меня скорее печалью, нежели гневом. Почему наши враги так нас ненавидят?
С помощью десятизлотовой банкноты удалось уговорить портье отеля разрешить нам ставить «вольво» в течение трех дней в «зарезервированном» месте прямо у входа (это дешевле, чем на официально охраняемой стоянке). И вот мы садимся в машину, чтобы в потоке выхлопных газов автомобилей направиться на поиски тени Шопена. Найти ее не представляло труда: в Бельведерском дворце, восстановленном салоне Шопена, дворце Острожских, костеле Святого Креста и так далее.
Мои предки также бывали там. Мы узнали, что костел Посещения Пресвятой Девы Марии в Краковском предместье, где Шопен играл на органе, был освящен в 1761 году епископом Анджеем Залуским. Я захотел сфотографировать здание – правда, с тех пор оно было перестроено, – в котором Шопен якобы сыграл свой последний концерт в Варшаве в 1829 году. Теперь это правительственное учреждение, до этого там размещался Купеческий зал, а еще раньше – дворец Залуских. Небритый служитель помахал мне рукой и, указав на фотоаппарат, закричал: «Verboten!»[1]. Однако манера произношения этого слова помешала достичь желаемого эффекта: тут нужна была прусская интонация. Поэтому я не обратил на него внимания и сделал несколько снимков. Он пожал плечами и ретировался.
Следы Шопена помогли открыть нам альтернативную культуру Польши: замкнутую и неуверенную в себе, мечтающую о великих свершениях и безденежную. Хорошо образованные и культурные мужчины и женщины, затерявшиеся в дерзком новом мире, из чьих уст часто слышны слова «рынок», «стимулирование», «рекламирование» и подобные, хотя, что за ними стоит в реальности – им, пожалуй, неясно. Нас, авторов новой книги «Шотландская осень Фредерика Шопена», принимали как почетных гостей, и по большому счету мы не испытывали никаких неудобств. Салон Шопена во дворце Красинских был специально открыт для нас. На фортепианном концерте в Желязовой Воле близ Варшавы, месте рождения Шопена и национальной святыне, мы были в упоении от собственной значимости. Обществу Шопена во дворце Острожских пришлось немало потрудиться, чтобы изыскать связи, объединявшие Шопена и Залуских в Варшаве. Нас гостеприимно пригласили в имение Санники, где Шопен жил подростком. В Антонине управляющий лично провел нас к величественному дворцу, великолепному восьмиугольному охотничьему домику Радзивиллов, в котором Шопен жил и давал уроки игры на фортепиано двум княгиням Радзивилл. Сейчас здесь гостиница, ресторан и место проведения концертов и ежегодных шопеновских фестивалей.
Шопена чтят в Польше, интерес к нему постоянно растет. Есть ли надежда, что будущее не только за Микки Маусом и королевским бургером? Наверное, но это обойдется недешево. Пока же следы Шопена лишь умощены камнем.
Так куда же движется земля моих предков? Предком из какой земли стану я сам? Я не разделяю кулуарного оптимизма политиков и эмигрантов-поляков, назойливых прогнозов посткоммунистической прессы. Пройдет пять, десять, двадцать лет, твердят они, и свободнорыночная Польша станет такой, как Западная Европа. Упаси Боже! Западная Европа – западная по сущности, ее образуют послевоенные составляющие. Составляющие Восточной Европы появятся из эпохи посткоммунизма, и я не рискну предположить, что за зверь получится в результате.
Но вернемся к Ивоничу. Первое, что мне предстояло сделать, – это посмотреть на него более внимательно, чем в 1968 году. Буду ли я сам участвовать в эволюционном процессе? Захочется ли мне жить там? Или же я просто буду выдаивать из государства все, что мне нужно? В конце концов, так делают многие другие – почему же не примкнуть к массам и не участвовать в дойке вместе с их лучшими представителями? Итак, какова же будет моя роль, задал я себе вопрос, минуя дорожный указатель на Ивонич. Я буду выступать в качестве глубокоуважаемого аристократа, возвращающегося в лоно своего народа, чтобы истребовать наследство, или в качестве проклятого западника, который приехал с целью приватизировать Воды и всех поувольнять? Трудившаяся в поле бабулька, с которой я разговорился, поцеловала мне руку, когда узнала, кто я, и обратилась ко мне с титулом, который давно исчез. Подвыпивший владелец паршивой гостиницы «Святовид», которая опозорилась бы даже на окраинах какого-нибудь Каракаса, пал на колени и, целуя руки моей жены и благодаря ее за доброту и понимание (почему именно эти качества пришли ему на ум, мы так никогда и не узнаем), стал слезно просить прощения за то, что в соседнем покое расположились шумливые коммерсанты, за море мертвых мух под окнами, за рваные занавески, за кутеж вчера ночью и за то, что вода (солоноватая и черноватая) появлялась из крана лишь изредка. Он со слезами добавил, как ему стыдно перед графом за ужасное поведение наших современных соотечественников.
Ивонич оказался дырой, повергшей меня в шок и уныние. Коммунистический брутализм и миниатюрный рай сосуществовали в ужасающей дисгармонии: запущенные дома лежащей внизу деревни, неровно уложенные тротуары с пробивающимися через них сорняками, зеленеющие холмы, застроенные навевающими тоску коробками новых домов, деревянные лачуги, превращенные в закусочные, где подавали пиво, кофе, жирные сосиски и чипсы, а также магазины, где дух свободного предпринимательства едва присутствовал. В неряшливом магазине сувениров, уставленном недосягаемыми стеллажами с почтовыми открытками, торговали две угрюмые девушки с каменно-безразличными лицами. Единственный ресторан в Ивониче представлял собой бетонный блок со всеми прелестями буфета, который можно было увидеть году этак в 1950-м на лондонском вокзале «Кингз-Кросс». Заказать можно было только тарелку жирного тепловатого супа журек с фрикадельками и несъедобный гамбургер. С завтраком все обстояло нормально – ржаной хлеб, масло, стакан горячей воды и пакетик с чаем нельзя быстро испортить. Мы с неудовольствием следили за разношерстной, неряшливой и раздражительной публикой, потреблявшей пиво, пока весь стол не был заполнен пустыми бутылками.
Среди этого пролетарского рая расположен центр городка, он предназначен только для пешеходов и, следовательно, избавлен от вонючих выхлопных газов, облако которых постоянно висит над подъездными дорогами. Во благо трудившихся там обладателей членских партийных билетов за ним постоянно ухаживали, благодаря этому он не изменился со времен моего отца и, словно алмаз, украшал собой город. Красивые аллеи, над которыми доминирует оригинальная деревянная часовая башня, вьются там меж взращенных заботливыми руками цветочных клумб, разбитых среди зеленых лужаек и рядов кустарника. Везде красивые, как на открытках, деревянные дома с высокими фронтонами и декоративными балюстрадами, напоминающие архитектурный стиль Новой Англии. С вершины холма на этот совершенно романтический уголок глядел великолепный, окруженный деревьями отель «Под пихтой». Местный кинотеатр располагается в изысканном миниатюрном концертном зале, который вы вряд ли видели где-либо еще. Широкие, выложенные плиткой дорожки ведут к санаториям, ванным и лечебным корпусам, разбросанным среди густо засаженных деревьями холмов за деревней. Вне сомнения, управление курортом налажено хорошо, и это делает честь польскому здравоохранению. Сейчас, когда обладателей членских партийных билетов несколько поубавилось, Ивонич начинает двигаться назад в своем развитии. Воспользоваться благами курорта могут позволить себе немногие из поляков.
Приятно прогуляться вечером среди этой идиллии, если бы не одно обстоятельство: из помпезного кафе «Краковяк» вовсю гремела рок-музыка, хорошо слышная и в долине, и на холмах. Качество звука хорошее, цены вроде бы умеренные, но большинство из тех, кто вдыхал насыщенный живительным бальзамом воздух, были либо хворыми людьми, либо пожилыми, либо на каталках. Как хотелось отыскать спокойный уголок!
Мы посетили Бельведер. Дом моего отца, когда-то прекрасно меблированный, бывший воплощением элегантности и хорошего вкуса, в основном благодаря моей матери, сейчас являл собой пустой каркас. Несколько невозмутимых девочек-подростков подметали двор и убирали мусор под руководством добродушной суетливой женщины лет за тридцать. Дом отдали кулинарной школе, пока не закончился срок аренды и его стали возвращать государству, которое, как меня уверили, не нашло ему никакого дальнейшего применения. Уборщиками оказались директриса школы и ее ученики. Директриса с радостью показала свое хозяйство и даже предложила мне забрать этот дом обратно, тем более что теперь он, как оказывается, никому не нужен. Мы осматривали Бельведер не меньше часа. Я старался обнаружить призраков, но их не было. Я стоял в углу веранды – там, где меня впервые сфотографировали ребенком на руках у матери: мама, улыбаясь сияющей и гордой улыбкой, сидела на диване, покрытом огромным цветастым покрывалом, и гордо покачивала новорожденного сына, словно сообщая ему движение вперед, к уготованной самим именем миссии. И вот я на том же месте, снова фотографируюсь, стараясь поймать что-нибудь из далекого прошлого. Однако призраки молчали.
Я взял себе как сувениры два выцветших польских флага и герб с белым орлом. На орлиную голову снова вернули корону, упраздненную коммунистами. Слишком много сточных и талых вод утекло под мостом… Наверное, я просто оставлю все как есть.
Глава 2
Страна в хаосе
В Варшаве на западном берегу Вислы, взгромоздившись на утесе, расположился Королевский замок. На площади перед ним возвышается памятник королю Сигизмунду III – пожалуй, самая яркая достопримечательность польской столицы. К югу – самое оживленное место в Варшаве, Краковское предместье, с костелами, дворцами, университетом и государственными учреждениями. От замка удаляются улицы Сенаторская и Медовая: на обеих выстроились правительственные здания, бывшие когда-то роскошными дворцами богатых магнатов. К северу от замка высится собор Святого Яна, а перед ним находится просторная Рыночная площадь старого города. После 1945 года практически вся Варшава была кропотливо восстановлена из руин, в которые она превратилась по приказу Гитлера, гласившего, что «на берегах Вислы более никогда не должен жить ни один поляк».
За два столетия до этого, в ноябре 1764 года, по холодным, вымощенным булыжником улицам Варшавы с грохотом проносились экипажи богачей, спешивших из одного дворца в другой в нескончаемом водовороте приемов, часто свидетельствовавших о распутной жизни. Большинство экипажей были запряжены на русский лад – четырьмя лошадьми, которые неслись так, словно жизни и конечности людей из уличной толпы для них почти ничего не значили. Толпа включала иногородних и иностранцев, которые только способствовали разрастанию армии нищих и обездоленных крестьян, прилепивших, словно пиявки, свои хижины к пышным дворцам господ. Все съехались в Варшаву на коронацию короля Станислава Августа.

Королевский замок в Варшаве
Станислав Понятовский, который родился в Волчине 17 января 1732 года, наследником польского престола не считался. Отцом его был генерал Станислав Понятовский. Будущий король – весьма красивый и воспитанный мужчина, способный своей душевностью, остроумием и непринужденностью в общении зачаровывать всех, в том числе иностранцев, готовился служить своей стране в качестве дипломата. В бытность секретарем английского посла в Санкт-Петербурге молодой Станислав завоевал сначала внимание, а затем и постель великой княгини Екатерины. В то время он не мог и предположить, как это поспособствует карьере: ведь в 1762 году его возлюбленная немка стала российской императрицей Екатериной II, впоследствии прозванной Екатериной Великой. Грядущий королевский титул Станислава Августа всецело станет результатом ее интриг. Согласно продиктованной Екатериной инструкции будущему королю следовало делать только одно: сохранять прежнее статус-кво, царившее в Речи Посполитой в течение последнего столетия при саксонских королях, то есть сохранять хаос и реакционность.
Польско-литовская уния – Речь Посполитая – внешне походила на огромное феодальное королевство, если не учитывать то обстоятельство, что власть короля в нем не была наследственной. Речь Посполитая являла собой спаренное государство – союз Польского Королевства (Короны), включавшего большую часть Украины, и Великого Княжества Литовского (Литвы), которое в основном занимало территорию нынешних Беларуси (большая часть территории которой в те времена, собственно, и называлась Литвой) и Литовской Республики (эти земли тогда имели название Жмудь). Это сообщество фактически управлялось дворянами-шляхтой, которые составляли десять процентов населения. Среди шляхтичей встречались не только сказочно богатые магнаты, чьи прихоти возводились в ранг законов на землях принадлежавших им огромных поместий, но и обедневшие «крестьяне из дворян», многие из которых служили на какой-нибудь «беловоротничковой» должности у своих богатых сородичей. Торговля или всякие иные спекулятивные занятия были по традиции категорически запрещены и отданы в руки евреев. Польского среднего класса фактически не существовало, а крестьяне, порабощенные магнатами, почти все прозябали в самой жалкой бедности.
В унии титулы никому не присваивались. Поскольку все магнаты имели связи с той или иной иностранной державой, будь то Россия, Пруссия или Австрия, любые принадлежавшие им титулы, например граф или князь, были пожалованы из-за границы. Магнаты говорили по-французски и на языке своих иностранных покровителей – польский язык был предназначен исключительно для крестьян. Согласно польской Конституции короля на пожизненный срок избирали магнаты. Они выслушивали «совет» российского посла в посольстве на улице Медовой, которое фактически играло роль Дома правительства Польши. Кто бы ни занимал российский престол, посол служил рупором его политики по всем вопросам, включая решения, кого избрать на трон Речи Посполитой. Идея этой необычной, но удобной системы заключалась в том, чтобы не позволить какой-либо одной династии стать слишком могущественной и, таким образом, оказаться способной самой диктовать свою волю магнатам. Как правило, королей выбирали из-за рубежа, главным образом из Германии, и, следовательно, заручались удобным и долговременным альянсом. Многие знатные европейцы тоже стремились стать обладателями польского королевского сана, как поступают ныне многие воротилы бизнеса, стремящиеся заполучить теплое директорское кресло после ухода в отставку.
Работа короля состояла в том, чтобы подчиняться воле русских самодержцев и не мешать своим магнатам вести роскошный и гедонистический[2] образ жизни. Благосостояние государства, как политическое, так и экономическое, в списке приоритетов занимало далеко не первое место. Будь ситуация другой, магнаты, наверное, превратились бы в поместных рыцарей, но в то время они гораздо больше предпочитали охоту, музыку и увеселения, нежели сражения. Образование также не считалось чем-то обязательным, если не говорить о некоторых просвещенных кругах общества. Чтобы подготовиться к жизни в стратосфере польского общества, мальчикам нужно было научиться развлекать гостей, ездить верхом и охотиться, а девочкам – танцевать, шить или играть на клавесине.
Комплектовать армию для короля, как в большинстве феодальных или полуфеодальных государств, не входило в обязанности магнатов. В военное время огулом сгоняли крестьян, вооружали их косами и другими предметами сельскохозяйственного инвентаря, обладающими смертоносными возможностями, и как пушечное мясо, массами бросали против гораздо лучше вооруженного и натренированного врага из соседних государств. К любым проблемам относились с рыцарской беспечностью, полагаясь на Бога: он-де в конечном итоге повернет все как надо.

