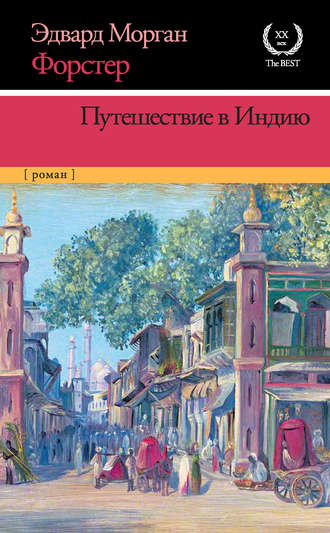
Полная версия
Путешествие в Индию
Однако, когда настал день приема, Азиза вдруг охватило отвращение, и он решил не ехать. Во-первых, он и так прекрасно себя чувствовал на работе, которой стало много в последнее время. Во-вторых, этот день совпал с годовщиной смерти жены. Она умерла вскоре после того, как он полюбил ее, – вначале, сразу после свадьбы, он ее не любил. Заразившись западными обычаями, он не испытывал радости от союза с женщиной, которую не видел ни разу в жизни. Более того, после первой встречи жена сильно его разочаровала, и первого ребенка он зачал, повинуясь лишь животному инстинкту. Она покорила его своей любовью, верностью, в которой было нечто большее, нежели простая покорность, стремлением к образованию, каковое должно было со временем сорвать занавеску с двери женской половины – пусть даже не при их жизни, а при жизни следующего поколения. Она была умна, развита, но при этом обладала старомодным изяществом. Постепенно Азиз избавился от ощущения, что его родственники выбрали для него неподходящую невесту. Чувственные удовольствия – даже если бы они были – через год неминуемо бы притупились; вместо них Азиз получил бесценный дар, и этот дар становился все дороже, чем дольше они жили вместе. Она стала матерью его сына… Даря ему второго, она умерла. Только тогда он понял, чего лишился, понял, что ни одна женщина никогда не сможет занять ее место; друг мог стать ему ближе, чем другая женщина. Она ушла, и не было в мире такой женщины, как она, а если так, то что это такое, если не любовь? Он развлекался и временами забывал о ней, но иногда наступали моменты, когда он чувствовал, что она унесла с собой в рай всю красоту, все радости мира. В такие минуты он всерьез задумывался о самоубийстве. Встретит ли он ее там, за могилой? Есть ли вообще место таких встреч? Азиз был ортодоксален в вере, но ответить самому себе на этот вопрос он не мог. Единство Бога было вне сомнений, и он верил в него, не сомневаясь, но во всех остальных вещах он сомневался, как сомневается любой средний христианин. Порой его вера в будущую жизнь бледнела, превращаясь в зыбкую надежду, исчезала вовсе, снова появлялась – и все это могло происходить мгновенно, за какой-нибудь десяток ударов сердца, и похоже, что не он сам, а клетки его крови решали, какого мнения ему придерживаться и сколь долго. Впрочем, такова была судьба всех его мнений. Ни одно из них не задерживалось надолго, а уходя, неизменно возвращалось обратно; это круговращение было бесконечным, оно сохраняло Азизу молодость, и он от всего сердца оплакивал жену, и искренность его скорби была еще больше от того, что он редко ее оплакивал.
Было бы проще сказать доктору Лалу, что он передумал ехать на вечер, но до самой последней минуты Азиз и сам не знал, что передумал; и даже это было не совсем так – все произошло само собой, помимо его воли. Отвращение, вдруг овладевшее Азизом, было непреодолимым. Миссис Каллендар, миссис Лесли – нет, он не мог видеть их в минуты своей скорби, и они угадали бы его настроение – Азиз отдавал должное проницательности британских леди – и получали бы садистское наслаждение, дразня его счастьем своих мужей. В то время, когда они с Лалом должны были отправиться на вечер, Азиз стоял на почте и писал телеграмму детям. Вернувшись, он обнаружил, что доктор Лал, не дождавшись его, уехал. Пусть едет, это вполне соответствует черствости его натуры. Он, Азиз, с большей радостью будет общаться с дорогими покойниками.
Он выдвинул ящик стола и достал оттуда фотографию жены. Он смотрел на ее лицо, и из глаз его заструились слезы. «Как я несчастен!» – подумал он. И поскольку он и правда был несчастен, его вскоре захлестнули другие чувства, смешавшиеся с жалостью к себе. Он попытался представить себе жену, вспомнить ее живой, но не смог. Но почему он помнит людей, которых никогда не любил? Он помнил их очень живо, но вот сейчас он смотрел на фотографию, и чем сильнее он в нее вглядывался, тем меньше видел. Она ускользала от него, с того самого дня, когда ее отнесли на кладбище и опустили в могилу. Он понимал тогда, что она уйдет от его объятий и скроется с глаз, но думал, что она навсегда останется в его мыслях, не понимая, что сам факт смерти любимой делает ее еще более нереальной и что с чем большей страстью мы призываем тех, кого уже нет на свете, тем дальше они от нас уходят. Кусочек коричневатого картона и трое детей – это все, что осталось от его жены. Это было невыносимо, и он снова подумал: «Как я несчастен!», и ему сразу стало легче. На мгновение глотнув смертоносного воздуха, окружающего людей Востока, как, впрочем, и всех людей на земле, он едва не задохнулся, но быстро оправился, потому что был молод. «Никогда, никогда, – подумал он, – я не справлюсь с этим. Карьера моя неудачна, и сыновья мои не получат должного воспитания». Несчастье было настолько очевидным, что Азиз перестал о нем думать и принялся просматривать записи в историях болезни. Кто знает, может быть, какой-нибудь богатый человек захочет, чтобы Азиз его прооперировал, и тогда он получит большую, очень большую сумму. Однако ход заболеваний довольно сильно интересовал Азиза и сам по себе; он запер фотографию в стол – ее время прошло, и он перестал думать о жене.
После чая настроение его улучшилось, и он отправился к Хамидулле. Хамидулла уехал на вечер, в отличие от его пони, и Азиз позаимствовал его, бриджи для верховой езды и клюшку для поло. Сев верхом на пони, он поехал на майдан. На площади было пусто, только на ее краю несколько ребят с базара тренировались. Интересно, для чего они тренировались? Они и сами затруднились бы ответить на этот вопрос, хотя он, как казалось Азизу, просто висел в воздухе. Мальчишки бегали по кругу, худющие, с торчащими коленками – питание их не располагало к здоровью, – изображая на лицах даже не решимость как таковую, а решимость быть решительными. «Приветствую вас, магараджи!» – шутливо воскликнул Азиз, и мальчишки рассмеялись. Он посоветовал им не слишком усердствовать, они пообещали и снова побежали.
Выехав на середину площади, Азиз начал стучать по мячу. Он не умел играть в поло, но пони умел, и Азиз решил у него поучиться. Он махал клюшкой, испытывая невероятную свободу и легкость. Он забыл обо всех этих проклятых делах, носясь по рыжей пыли майдана и чувствуя, как вечерний ветер овевает его лоб, а стоящие по краю площади деревья внушают покой своей зеленью. Мяч отлетел от клюшки в сторону одинокого субалтерна [13], который тоже практиковался в поло. Он отбил мяч Азизу и крикнул:
– Подайте еще раз!
– Хорошо.
Офицер имел какое-то – пусть и отдаленное – представление об игре, чего нельзя было сказать о его лошади, так что шансы были равны. Сосредоточившись на мяче, оба незаметно прониклись друг к другу симпатией и одновременно улыбнулись, отпустив поводья. Азиз любил военных – они либо принимают тебя безоговорочно, либо осыпают ругательствами, а такая прямота всегда предпочтительней для штатской гордости. Этому субалтерну нравились все, кто умел ездить верхом.
– Часто играете? – спросил он.
– Никогда прежде не пробовал.
– Тогда еще один чуккер? [14]
Он ударил по мячу, лошадь взбрыкнула, субалтерн упал с нее, но тотчас снова вспрыгнул в седло.
– Никогда не приходилось падать?
– О, много раз.
– Не лгите.
Они снова натянули поводья, в глазах их вспыхнуло пламя внезапно возникшего товарищества, которому было суждено угаснуть вместе с напряжением тел. Спорт приносит лишь временную радость. Национальная принадлежность непременно дала бы себя знать, но они расстались, прежде чем эта ядовитая разница дала себя знать, сердечно отсалютовав друг другу. «Если бы все они были такими», – подумал каждый из них.
Солнце клонилось к закату. Единоверцы Азиза потянулись на майдан, чтобы помолиться, повернувшись лицом к Мекке. На площади показался бык, и Азиз, хотя сам он сейчас не был склонен к молитве, решил, что этому неуклюжему идолопоклонническому животному не место на майдане. Он бесцеремонно ткнул его в бок клюшкой и в тот же момент услышал, как его окликнули с дороги. Это был доктор Панна Лал, возвращавшийся с вечера, устроенного инспектором. Коллега был не в духе.
– Доктор Азиз, доктор Азиз, где же вы были? Я был у вас дома, прождал вас целых десять минут, но потом уехал один.
– О, простите меня, простите великодушно, но мне пришлось срочно отлучиться на почту.
Человек из круга Азиза тотчас бы понял, что он просто передумал – событие это было настолько обыденным, что едва ли заслуживало порицания. Но доктор Лал был человеком иного сорта и происхождения; он решил сразу, что это было преднамеренным оскорблением. К тому же Лал был раздражен тем, что Азиз ударил быка клюшкой.
– На почте? – переспросил он. – Но почему вы не послали туда своего слугу?
– У меня мало слуг, я не могу себе позволить такой роскоши при моем жалованье.
– У вас есть слуга, я же разговаривал с ним.
– Но, доктор Лал, подумайте сами. Как я мог послать на почту своего слугу, если понимал, что вы приедете ко мне? Вы приходите, мы уезжаем, дом остается без присмотра, и слуга, вернувшись, видит, что из дома исчезло все движимое имущество, вынесенное грабителями. Вы этого хотели? Мой повар глухой, я не могу на него рассчитывать, а посыльный – он всего лишь несмышленый сопливый мальчишка. Нет, нет, мы с Хассаном никогда не уходим из дома одновременно, это мое твердое правило.
Все это и многое другое Азиз говорил только из вежливости, чтобы позволить доктору Лалу сохранить лицо. Азиз не ждал, что все это будет принято за чистую монету. Однако Лал немедленно все испортил – легко и непринужденно, как и следовало ожидать от человека низкой породы.
– Даже если это и так, то что помешало вам оставить мне записку, чтобы я не ждал вас понапрасну?
Этим вопросом красноречие Лала не исчерпалось. Азиз не любил невоспитанных людей и пустил пони в галоп.
– Не делайте этого, не то моя лошадь тоже припустит галопом – дурные примеры заразительны, – воскликнул доктор Лал и тут же раскрыл подлинную причину своего раздражения. – Она сегодня и так отличилась, потоптала самые лучшие цветы в саду Клуба, и ее едва оттащили четыре человека. Английские леди и джентльмены это заметили, как и сам коллектор-сагиб. Но, доктор Азиз, я не смею отнимать у вас ваше драгоценное время. Вряд ли мой рассказ вас заинтересует, у вас слишком много дел и неотложных телеграмм. Я же просто бедный старый врач, считающий своим долгом проявить уважение, когда меня об этом просят. Должен заметить, что о вашем отсутствии говорили.
– Черт их возьми, говорить они умеют.
– Как хорошо быть молодым, как хорошо, чертовски хорошо. Кстати, кого должен взять черт?
– Знаете, я могу ездить в гости и не ездить в гости, это моя воля.
– Но вы обещали мне, а потом сочинили эту историю о телеграмме. Вперед, Пятнашка!
Лошадь Лала пошла рысью, и Азиза вдруг охватило желание нажить себе врага на всю жизнь. Это было так просто – надо было всего лишь проскакать мимо Лала и его Пятнашки галопом, что Азиз и не преминул сделать. Пятнашка рванула вперед, а Азиз повернул пони и вскачь вернулся на майдан. Удовольствие от игры с субалтерном некоторое время подогревало его, и он несся галопом, пока не вспотел. Вернув пони в конюшню Хамидуллы, он чувствовал себя равным любому человеку, кем бы тот ни был. Однако, спешившись, Азиз успокоился, и в душу его заполз страх. Не вызвал ли он недовольство сильных мира сего? Не оскорбил ли он коллектора своим отсутствием? Доктор Панна Лал был человеком незначительным, но было ли мудро ссориться с ним? По характеру своего ума Азиз тотчас переключился с человеческих суждений на суждения политические. Он не думал: «Могу ли я вообще ладить с людьми?», нет, он думал: «Сильнее ли они меня?» – и старался понять, откуда дует господствующий ветер.
Дома его ждало письмо с государственным штемпелем. Оно лежало на столе, как бомба, готовая взорваться от малейшего прикосновения и разнести в щепки его жалкое жилище. Наверное, его решили уволить за то, что он не явился на званый вечер. Однако, распечатав письмо, Азиз убедился, что речь в нем шла отнюдь не об увольнении. Это было приглашение от мистера Филдинга, ректора государственного колледжа. Мистер Филдинг просил Азиза приехать послезавтра к нему на чай. Азиз немедленно воспрянул духом. Собственно, он воспрянул бы в любом случае, ибо душа Азиза могла страдать, но не могла оцепенеть. Душа его под покровом внешней изменчивости жила своей устойчивой жизнью. Однако это приглашение обрадовало его особенно сильно, потому что Филдинг уже приглашал его на чай – это было десять месяцев назад, – но Азиз не отозвался на приглашение, не ответил письмом и вообще забыл о нем. И вот теперь он получил второе письмо, в котором не было ни упреков, ни даже упоминаний о первом приглашении. Это была истинная любезность, говорящая о великодушии, и Азиз, схватив перо, написал прочувствованный ответ, а потом побежал к Хамидулле за новостями. Сам Азиз был незнаком с ректором, но был уверен, что это новое знакомство позволит заполнить еще одну брешь в его жизни. Он хотел знать все об этом прекрасном человеке – его жалованье, предпочтения, происхождение и, самое главное, чем можно было ему угодить. Но Хамидуллы все еще не было дома, а Махмуд Али лишь отпускал глупые и грубые шутки в отношении прошедшего вечера.
VII
Мистера Филдинга Индия очаровала довольно поздно. Ему было уже за сорок, когда он вошел в странное неоготическое здание вокзала Виктория-Терминус в Бомбее и, дав непременную взятку европейцу-контролеру, отнес багаж в купе своего первого тропического поезда. Путешествие это навсегда отложилось в его памяти. Из двух его попутчиков один был юношей, как и он, очутился на Востоке впервые, как и сам Филдинг, второй же был закаленным англоиндийцем и его ровесником. От обоих Филдинга отделяла непреодолимая пропасть: он повидал на своем веку слишком много стран и людей, чтобы быть первым или стать вторым. Новые впечатления теснились у него в голове, но это были непривычные новые впечатления – прошлое определяло их восприятие, и то же самое касалось и его ошибок. Например, смотреть на индийца так, словно он итальянец, было не самым распространенным заблуждением, как, впрочем, и не смертельным, – Филдинг часто пытался проводить аналогии между этим полуостровом и тем, другим, меньшим и более изящно оформленным, протянувшим свой сапожок в античные воды Средиземного моря.
Его преподавательская карьера странным образом отличалась большим разнообразием, и подчас он попадал в затруднительные ситуации, в чем потом горько раскаивался… Сейчас это был стойкий, добродушный, разумный и здравомыслящий человек, давно разменявший пятый десяток, но до сих пор веривший в силу образования. Ему было не важно, кого учить: на его пути встречались и мальчишки из государственных школ, и дефективные дети, и полицейские, а теперь он не возражал попробовать свои силы и на индийцах. По протекции друзей он получил место ректора маленького чандрапурского колледжа, полюбил его и считал свое назначение большим успехом. В отношениях с учениками он и в самом деле добился успехов, но пропасть между ним и его соотечественниками, наметившаяся еще в поезде, стала лишь глубже и шире. Сначала Филдинг не понимал, в чем дело. Его нельзя было упрекнуть в недостатке патриотизма, он всегда был в прекрасных отношениях с англичанами в Англии, все его лучшие друзья были англичане, так почему все пошло не так именно здесь? Внешне грубоватый, он вызывал доверие своими большими неуклюжими руками и синими глазами еще до того, как раскрывал рот. Но потом что-то в его поведении озадачивало людей и не могло развеять недоверие, порождаемое – что вполне естественно – его профессией. Это зло в Индии должно быть у всех в головах, но горе тому, через кого это зло усиливается! У англичан нарастало и крепло ощущение, что мистер Филдинг – это разрушительная сила, и это было верное мнение, ибо идеи смертельны для кастовости, а Филдинг пользовался идеями самым мощным способом – обмениваясь ими. Не будучи ни миссионером, ни ученым, он больше всего преуспел в искусстве взаимообогащающей беседы. Он верил, что мир – это земной шар, населенный людьми, изо всех сил пытающимися достучаться друг до друга, и кратчайший путь к сближению – это добрая воля, культура и разум. Такая вера плохо вписывалась в чандрапурское общество, но Филдингу было уже поздно от нее отказываться. У него не было расового чувства, и не потому, что он считал себя выше своих собратьев, а потому, что он рос и воспитывался в иной атмосфере, где не было места стадному инстинкту. Больше всего ему навредила фраза, вскользь произнесенная им однажды в Клубе – о том, что так называемая белая раса на самом деле розово-серая. Он произнес эту фразу в шутку, не понимая, что «белая» относится к цвету не больше, чем фраза «Боже, храни короля!» – к богу, и верхом неприличия было подвергнуть сомнению то, что этот эпитет означал в действительности. Розово-серый субъект, которому была адресована шутка, внутренне разъярился – его чувство уверенности в себе было сильно задето – и не преминул сообщить об этом остальным овцам стада.
Тем не менее его продолжали терпеть – за доброе сердце и физическую силу; однако жены членов Клуба решили, что Филдинг не настоящий сагиб. Он им не нравился, так как не обращал на них ни малейшего внимания. Это сошло бы ему с рук в феминистской Англии, но сильно вредило здесь, где от мужчины ждут энергичной помощи. Мистер Филдинг никогда не рассуждал с видом знатока ни о собаках, ни о лошадях, он не давал обедов и не наносил дневных визитов, он ни разу не украсил рождественскую елку для детей, и, несмотря на посещения Клуба, он приходил туда только затем, чтобы поиграть в теннис или бильярд, а затем уйти домой. Именно так. Он открыл для себя, что мог вполне ужиться с англичанами и индийцами одновременно, но тот, кто хочет ладить еще и с англичанками, должен отказаться от общения с индийцами. Соединить это было невозможно. Бесполезно было обвинять в этом обе стороны, бесполезно было обвинять их в том, что они без устали обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Это была просто данность, и Филдинг должен был сделать свой выбор. Большинство англичан предпочитало своих соотечественниц, которые, приезжая в Индию во все возрастающем числе, делали жизнь местных джентльменов вполне сносной. Филдингу было приятно и удобно близко общаться с индийцами, но в этом мире все имеет свою цену. Как правило, ни одна англичанка не переступала порог колледжа, если ее не принуждали к этому какие-то официальные дела, и если он и пригласил миссис Мур и мисс Квестед на чай, то только потому, что они были приезжими, смотрели на все беспристрастным, хотя и поверхностным взглядом и вряд ли станут менять тон, обращаясь к другим его гостям.
Колледж был стеснен в площадях Департаментом общественных работ, но сохранил старинный сад и садовый дом, в котором Филдинг и жил большую часть года. Он одевался после ванны, когда слуга объявил о приходе доктора Азиза. Повысив голос, Филдинг крикнул:
– Прошу вас, чувствуйте себя как дома!
Эта фраза не была заранее заготовленной, как и большая часть того, что делал мистер Филдинг: он произнес то, что думал и чувствовал в данный момент.
Для Азиза эта фраза имела совершенно определенное значение.
– В самом деле, мистер Филдинг? Вы очень добры, – отозвался он. – Мне чрезвычайно нравится поведение, лишенное условностей.
Дух Азиза воспарил, он живо оглядел комнату. Не лишенная налета роскоши, она была начисто лишена порядка – здесь не было ничего, способного нагнать робость на бедных индийцев. Мало того, комната была красива, и через тройную дубовую арку оконного переплета открывался вид на сад.
– Честно сказать, я давно хотел познакомиться с вами, – продолжал Азиз. – Я очень много слышал о вашем добром сердце от Наваба Бахадура. Но как я мог познакомиться с вами в такой дыре, как Чандрапур? – Он подошел вплотную к двери спальни. – Знаете что, когда я пробыл здесь еще совсем недолго, мне хотелось, чтобы вы заболели, и тогда мы с вами точно бы встретились.
Оба рассмеялись, и воодушевленный своим успехом Азиз принялся вдохновенно импровизировать.
– Я говорил себе: «Как выглядит сегодня утром мистер Филдинг? Наверное, он очень бледен. Уполномоченный хирург тоже бледен, и он не поедет к мистеру Филдингу, потому что у того начинается лихорадка». Он послал бы к вам меня, и мы с вами очень приятно провели бы время, ибо вы признанный знаток персидской поэзии.
– Так, значит, вы знаете меня по слухам.
– Конечно, конечно, а вы меня знаете?
– Я очень хорошо знаю ваше имя.
– Я переехал сюда совсем недавно и почти все свободное время провожу на базаре, так что нет ничего удивительного, что вы ни разу меня не видели. Странно, что вы знаете меня по имени. Мистер Филдинг?
– Да?
– Угадайте, как я выгляжу, прежде чем выйдете. Давайте устроим веселую игру.
– Ростом вы пять футов девять дюймов, – ответил Филдинг, подкрепив свою догадку взглядом в стеклянную панель в нижней части двери своей спальни.
– Почти так. Что еще? Нет ли у меня почтенной седой бороды?
– Черт!
– Что-то случилось?
– Я раздавил запонку для воротника.
– Возьмите мою, возьмите мою.
– У вас есть запасная?
– Да, да, подождите минутку.
– Нет, не надо, если она на вас.
– Нет, нет, она у меня в кармане, – отступив в сторону, чтобы Филдинг не видел его силуэт, Азиз сорвал с себя воротник и извлек из рубашки заднюю запонку – одну из двух, привезенных ему шурином из Европы.
– Вот, – крикнул он.
– Войдите, если вы так склонны пренебрегать условностями.
– Еще минуту, – приладив на место воротник, Азиз мысленно взмолился всевышнему, чтобы воротник за чаем не выгнулся горбом на его затылке. Посыльный Филдинга, помогавший ему одеваться, открыл дверь.
– Премного благодарен, – сказал Филдинг, и оба улыбнулись, пожав друг другу руки. Азиз внимательно огляделся, как сделал бы это в доме любого старого друга. Филдинг нисколько не был удивлен быстротой их сближения. С такими эмоциональными людьми отношения устанавливаются сразу или никогда, а они с Азизом – поскольку слышали друг о друге только хорошее – могли обойтись без предварительных церемоний.
– Знаете, я всегда думал, что в английских домах царит идеальный порядок, но теперь я понимаю, что это не совсем так, и мне нечего стыдиться. – Он непринужденно сел на кровать; потом, окончательно забывшись, он скрестил под собой ноги. – Я думал, что все очень холодно разложено по полочкам. Ах да, мистер Филдинг, запонка подошла?
– I hae ma doots [15].
– Что вы сказали? Вы не научите меня новым словам, чтобы я улучшил мой английский?
Филдинг сильно сомневался, можно ли «улучшить то, что холодно разложено по полочкам». Он часто поражался живости, с какой молодое поколение относилось к любому иностранному языку. Молодые люди коверкали идиомы, но умудрялись быстро сказать то, что хотели. Однако те, кто посещал Клуб, не коверкали английский. Но Клуб был страшно консервативен. Там до сих пор считали, что очень немногие мусульмане имеют право сидеть за английским столом, а индусы и вовсе недостойны такой чести. В Клубе были уверены, что все индийские дамы сидят взаперти по своим женским половинам. Каждый англичанин по отдельности знал, что это не так, но Клуб как целое не желал меняться.
– Позвольте, я сам вставлю запонку. Понятно… Отверстие в рубашке слишком мало, а рвать ее очень жалко.
– За каким чертом вообще нужны эти съемные воротники? – прорычал Филдинг, нагнув голову.
– Мы носим их, чтобы миновать полицию.
– То есть?
– Если я еду на велосипеде в английской одежде – в накрахмаленном воротничке и шляпе, – то ни один полицейский не обратит на меня внимания. Но если я надену феску, то меня тотчас остановят: «У вас не горит фара!» Лорд Керзон не учел этого, когда призывал коренных индийцев носить свои живописные традиционные костюмы. Ура! Запонка подошла. Знаете, иногда я закрываю глаза и вижу себя в роскошном одеянии. Я скачу верхом на битву за падишахом Аламгиром. Мистер Филдинг, разве не была Индия великолепной и могущественной, когда ею правили Великие Моголы, а на Троне павлина в Дели восседал Аламгир?
– На чай придут две леди, они хотят встретиться с вами. Думаю, вы их знаете.
– Встретиться со мной? Я не знаю никаких леди.
– Вы не знаете миссис Мур и мисс Квестед?
– О, теперь вспомнил. – Романтическая встреча в мечети ушла в тень сознания Азиза, как только он распрощался с миссис Мур. – Это очень пожилая дама; но вы не будете любезны повторить имя ее спутницы?
– Мисс Квестед.
– Как вам будет угодно. – Азиз был разочарован тем, что придут какие-то другие гости. Он бы предпочел побыть наедине со своим новым другом.
– Вы сможете поговорить о Троне павлина с мисс Квестед, она, как говорят, художественная натура.
– Она постимпрессионист?
– Да, это действительно постимпрессионизм! Давайте пить чай. Этот мир стал мне уже порядком досаждать.








