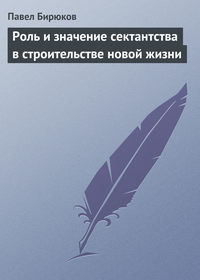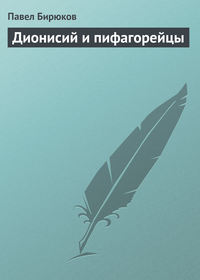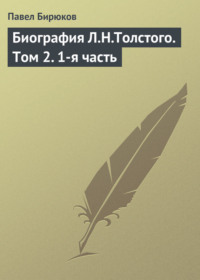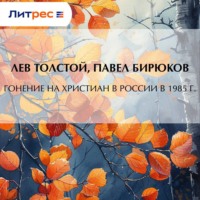полная версия
полная версияБиография Л.Н.Толстого. Том 3
Чтобы отметить автобиографическую часть романа, я должен рассказать об одной встрече моей со Л. Н-чем и тем исполнить завещанное им мне дело. В августе 1910 года, т. е. за три месяца до его смерти, я посетил Л. Н-ча в Ясной Поляне. Чувство благоговения, с которым я относился к нему, часто мешало мне беспокоить его расспросами о его жизни с биографической целью. Чуткая душа его угадывала мои чувства, и он часто сам начинал рассказывать, прибавляя: «Вот это вам будет полезно для вашей работы». Я жадно, слушал и проглатывал его слова, но, к сожалению, мало записывал и потому в памяти моей осталось только самое главное.
И вот в этот приезд я раз увидал его гуляющим утром до завтрака в своих старинных любимых липовых аллеях. Он часто по утрам там молился, и я называл эти огромные липовые своды, с проглядывающей сквозь яркую листву лазурью неба, храмом Льва Николаевича.
Заметив меня, он подозвал, и мы пошли рядом. Обменявшись несколькими приветственными словами, он стал меня расспрашивать о моей работе и потом серьезным, спокойным проникающим душу голосом сказал:
«Вот вы пишете про меня все хорошее. Это неверно и неполно. Надо писать и дурное. В молодости я вел очень дурную жизнь и два события этой жизни особенно и до сих пор мучают меня. И я вам, как биографу, говорю это и прошу вас это написать в моей биографии. Эти события были: связь с крестьянской женщиной из нашей деревни, до моей женитьбы. На это есть намек в моем рассказе «Дьявол». Второе – это преступление, которое я совершил с горничной Гашей, жившей в доме моей тетки. Она была невинна, я ее соблазнил, ее прогнали, и она погибла».
Слушая с трепетом сердца это покаяние, я не мог, конечно, дальнейшими расспросами растравлять душевную рану этого покаяния. Мы шли несколько времени молча, и потом встреча кого-то из семейных прекратила нашу беседу.
Сопоставляя этот короткий рассказ с тем, что описано в «Воскресении», мы можем заключить, что отношения Нехлюдова к Катюше и есть изображение этого события. Этим можно объяснить и ту страстность, с которой Лев Николаевич относился к этому сюжету, и то увлечение, с которым он торопился кончить и опубликовать прежде всего эту повесть из многих начатых им. Да будет это покаяние не в осуждение почившему, а к очищению его светлой памяти.
Важное место в романе занимает приложение к земельному вопросу теории Генри Джорджа. Как известно, Л. Н-ч разделял эти взгляды и ему хотелось воспользоваться привлекательной формой романа для распространения этих взглядов. В первоначальном виде этому вопросу в романе было отведено еще больше места. По этому первоначальному варианту Нехлюдов вступал в законный брак с Катюшей и поселялся в Сибири. Главным занятием Нехлюдова в этой новой семейной жизни было составление докладной записки государю о важной предлагаемой им государственной реформе – национализации земли и учреждении единого налога по системе Генри Джорджа.
Теоретическая часть романа, основная идея, на которую нанизаны бытовые явлении, заключается в обличении государственного насилия и церковного обмана. И выставление в противовес им положительной силы жизни по своей совести, руководимой разумом и любовью.
Обличение бюрократизма выражено изображением важного чиновника Топорова, в котором легко узнать покойного Победоносцева. И разговор его с Нехлюдовым есть воспроизведение разговора дочери Л. Н-ча, Татьяны Львовны, с Победоносцевым, к которому она обращалась по поводу отобрания детей молокан, и который приведен нами в подлиннике в своем месте. Как и изображено в романе, Победоносцев тотчас же распорядился, чтобы дети были возвращены.
Еще укажем на один тип очень близко списанный с натуры. Это крестьянин-раскольник, которого Нехлюдов встретил на пароме, в Сибири. Это тип сложный. В него вошли два живых типа раскольников-старообрядцев весьма крайнего направления.
Один из них ходил по центральной России, бывал и в Москве, и многие из нашего кружка знали его и беседовали с ним. Он часто высказывал оригинальные и смелые мысли. Он очень любил обличать правительство за допущение продажи табака и называл его «табачной державой»; этот человек так и был у нас известен под именем «табачной державы». Иногда его речь казалась очень запутанной оттого, что он употреблял многие апокалиптические выражения.
Другой тип, раскольник Андрей Вас. Власов, был в переписке со Л. Н-чем как раз во время писания им «Воскресения», и Л. Н-ч заимствовал из его писем много сильных выражений.
Многие описания природы, помещичьего быта носят также автобиографический характер. Мир арестантов уголовных и революционных описан отчасти по личным впечатлениям Л. Н-ча, часто посещавшего тюрьмы, отчасти по документам, доставленным Л. Н-чу его друзьями революционерами. Сам Л. Н-ч никогда не был в Сибири, тем удивительнее сила его художественного творчества, воспроизведшая с такою реальностью этапную, острожную и вообще сибирскую жизнь.
Герой повести кн. Нехлюдов – конечно, все то же лицо, которое мы видели еще юношей в «Юности», потом в «Утре помещика», в «Люцерне», в «Встрече в отряде»; это лицо, которое должно было играть главную роль в задуманном, но не написанном Л. Н-чем «Романе русского помещика», от которого остались только одни наброски.
В него вкладывает Л. Н-ч свои лучшие мечты, заставляет его переживать собственные страсти, свои пороки и увлечения и в нем же открывает нам свою душу, очищенную и полную высших стремлений.
Как известно, роман кончается тем, что кн. Нехлюдов, переживая в себе все впечатления жизни, задумывается над вопросом: что делать, чтобы бороться со всем этим торжествующим в мире и заливающим мир злом? Ответ на это Нехлюдов находит в Евангелии, в притче «о немилосердном заимодавце», особенно в последних словах этой притчи: «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?»
Бесконечна вина наша перед вечной правдой, а мы считаемся, мстим и наказываем, не прощаем людей за их ничтожные сравнительно вины, которые они совершают перед нами.
То же подтвердили ему и слова Христа, обращенные к Петру о том, что прощать надо не до семи, а до семижды семидесяти раз, т. е. навсегда; и Л. Н-ч так заключает рассуждения Нехлюдова:
«Так выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло в только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей».
Л. Н-ч заключает свой роман словами о том, что Нехлюдову открылся новый путь жизни. «А чем кончится он, покажет будущее».
Творческий гений, создавший это великое произведение, отошел в вечность, не дав нам изображения этого нового периода жизни. Будем ждать, что люди, проникнутые выраженными в романе идеями, дадут нам в действительной жизни то, что было намечено Л. Н-чем в его художественном произведении.
Многие читатели, пораженные и побежденные силой художественного прозрения при чтении этого произведения, были до некоторой степени разочарованы концом романа: «так все хорошо, глубоко и вдруг тексты и конец».
Когда до Л. Н-ча дошли эти разочарования, он ответил на них: «Если я позволил себе так много времени посвятить художественной работе, т. е. недостойной моему возрасту игре, то только для того, чтобы заставить людей прочесть забытые ими места Евангелия, которыми заключил роман».
Мы уже говорили о личном элементе этого романа, который, несомненно, играл роль в увлечении, с которым работал Л. Н-ч над этим произведением. С другой стороны, широкое поле для кисти художника изображение пресыщенных, праздных и хищных – с одной стороны, и смиренно страдающих и несущих в себе семена жизни – с другой стороны, при новом взгляде на жизнь, не могло не увлечь долго остававшегося без употребления художественного инстинкта Л. Н-ча. Л. Н-ч много раз брался за это произведение и снова бросал его. В нем боролись две силы: художник и моралист. Он бросал произведения искусства, чтобы высказать слова голой правды, звать людей к спасению, так как видел их уже на краю гибели, когда уже некогда услаждать их красивыми образами.
Почему же Л. Н-ч наконец кончил, обработал свое художественное произведение? Неужели эстетик снова победил в нем моралиста? Нет, но на чашку весов, на которой лежали его художественные наклонности, была положена новая тяжесть, которая перетянула. Это была благая цель, спасение нескольких тысяч лучших людей от болезней и смерти, возможность дать этим людям свободно работать в лучших условиях. Эта высокая бескорыстная цель дала возможность Льву Николаевичу отдаться своему художественному гению, и тогда он призвал все силы этого гения и показал этим людям правду жизни с той силой, на которую только способно словесное искусство, просветленное высшим религиозным сознанием.
Подобно тому, как мы поступали с другими большими произведениями Л. Н-ча, мы считаем своим долгом сделать краткий обзор критической литературы «Воскресения».
Критическая литература о «Воскресении» очень велика и будет, вероятно, еще расти с течением времени, так как вопросы, затронутые в этом произведении, принадлежат вечности. В этом нашем кратком очерке мы дадим только несколько типичных образцов, указывающих на разные стороны человеческой жизни, затрагиваемые этим романом и дающих нам общую картину того впечатления, которое произвело на читающую публику появление этого произведения.
Вот как описывает это впечатление критик «Недели» Пл. Н. Краснов:
«Не будет преувеличением сказать, что «Воскресение» было встречено публикой с наибольшим интересом, чем какое-либо иное произведение гр. Л. Н. Толстого. Немало этому содействовала уже и вполне прочно установившаяся репутация автора, как великого художника и оригинального мыслителя; но всего больше интерес этот обусловлен поистине громадными достоинствами последнего произведения гр. Л. Н. Толстого и по размерам, и по глубине замысла, и по тонкости отделки далеко превосходящего все произведения, написанные после «Анны Карениной», а, может быть, в иных отношениях даже и этот последний роман и самую «Войну и мир».
Далее критик говорит о внешних приемах, которыми пользуется Л. Н-ч в изображении событий и лиц:
«Воскресение» написано приемами особенного наглядного реализма. Гр. Л. Н. Толстой старается описывать предметы и события, употребляя самые простые слова, не прибегая к общепринятым в разговоре терминам, маскирующим и оправдывающим события. Он не говорит, напр., что полы в квартире Нехлюдова натирались полотерами, а указывает, что они чистились мужиками; при описании церковных или судейских обрядов гр. Л. Н. Толстой не пользуется техническими выражениями, но употребляет самые простые слова, описывающие жесты и действия этих лиц. Таким приемом, во-первых, достигается большая внимательность читателя к существу дела, невозможная при употреблении общепринятых терминов, которые встречаются как хорошо знакомые символы, о которых нечего задумываться; во-вторых, получается большая образность описания, а в-третьих, получается впечатление зрителя, рассматривающего современный быт со стороны; мы смотрам на нашу жизнь так, как смотрели бы на жизнь жителем какой-нибудь другой планеты».
Далее в своей статье Пл. Н. Краснов указывает, между прочим, на характерную особенность в выборе героини романа:
«Что касается выбора героини, то нам уже пришлось встречать в критике упреки гр. Л. Н. Толстому за то, что он выбрал героиню из самой низшей среды. Говорили, что лучшие наши художники выводили героинями таких женщин, которым каждая из читательниц могла бы подражать; того же ожидали и от героини гр. Л. Н. Толстого; но разве можно подражать Катюше Масловой? Словом, на сцену был поднят вечный вопрос о положительных типах. Но натуралистический роман тем и отличается от идеалистического, что он изображает не идеалы современного общества, а действительную жизнь, какова она есть. Если же гр. Л. Н. Толстой обратил внимание именно на это явление жизни, то объяснение этому лежит в известном нравственном подъеме общества за последние годы именно в области этих легких отношений к женщине. Сам гр. Л. Н. Толстой другими словами, менее художественными и более тенденциозными, даже нравоучительными произведениями способствовал нравственному росту общества в этом отношении. Но интересно и важно знать не только, как следует поступать молодым мужчинам в отношении женщин, но и то, как дело обстоит в действительности».
Н. К. Михайловский подмечает новую черту в авторе «Воскресения» – это его оппозиция к той среде, в которой живет он сам и в которой заставляет жить своего героя. Критик говорит:
«…в «Воскресении» гр. Толстой воюет с невидимым, но совершенно определенным врагом. Это не выживший из ума генерал Кригмут, не сибирский конвойный офицер, вспоминающий какую-то венгерку с персидскими глазами, не деревянный муж сестры Нехлюдова, не пошлая лгунья Mariette, не судья с катаром желудка и не тот судья, которым перед заседанием гимнастикой занимается; вообще не какое-нибудь определенное лицо. Умные и глупые, больные и здоровые, смешные и скверные, эти действующие лица рассказа сливаются для автора в один серый фон, и каждое из них в отдельности не претерпевает каких-нибудь сильных ударов от него: он спокойно записывает их глупости, скверности и пошлости. Его враг – «все», та страшная сила «всех» данного общества, которая глушит лучшие движения души личности, подсовывая ей свои готовые решения вопросов жизни…»
Новую характеристику героя «Воскресения» дает критик «Нивы» Р. И. Сементковский; ему кажется, что Нехлюдов – это знакомый герой, уже много раз изображенный русскими писателями в лучших своих произведениях, но тип этот для Р. И. Сементковского скорее отрицательный. Он так характеризует его:
«Как близок и как понятен нам этот князь Нехлюдов! Он имеет в литературе своего знаменитого предшественника, тоже громившего с высоты своего теоретического величия и своей пробудившейся совести все окружающее. Назывался этот предшественник Чацкий, и его «горе» происходило от «ума». От какого ума? От ума, витающего в безвоздушном пространстве, от ума, которому нет преград, потому что в безвоздушном пространстве, как выразился еще Шиллер, «идеи мирно уживаются, а в действительности предметы резко сталкиваются…» Правда, между Чацким и князем Нехлюдовым существует та разница, что первый ораторствует, а второй только размышляет, но ведь и Чацкий произносит монологи, т. е. ведет внутреннюю беседу с самим собою. Они – одного поля ягоды, и мы можем присоединить к ним многие другие, хорошо нам известные типы: Манилова, Рудина, Райского и т. д. Есть что-то родственное между этими нашими знакомыми, и никто их не смешает ни с Констажогло, ни с Инсаровым, ни с Соломиным. Эти последние не выступали в роли неумолимых судей существующего, но зато делали очень много, чтобы изменить существующее к лучшему. А Чацкие, Рудины, Нехлюдовы все осуждают и ничего не делают».
Но значение романа, по мнению критика, от этого не страдает, и в конце статьи он говорит так:
«Громадное значение нового романа гр. Л. Н. Толстого заключается в том, что русское интеллигентное общество должно узнать себя в Нехлюдове, увидеть в нем отражение собственного неказистого «я». Все мы так склонны рассуждать, осуждать, строить самые радикальные теории и так мало способны осуществлять наши идеалы в жизненном деле. Мы – герои в области смелых фраз, резкого осуждения, пожалуй, даже самобичевания, но в самой жизни мы отнюдь не герои. Создать образ, в котором общество видит себя, как в зеркале, в котором отражается главный общественный недуг, может только великое дарование».
Иного мнения об этом произведении строгий критик «Русской мысли» г-н Протопопов. Он признает только один внешним успех произведения и говорит, что больше всего пользы принес роман издателю Марксу. Впрочем, он находит даже, что и романом «Воскресение» назвать нельзя. К счастью, голос его звучит совершенно одиноко, если не считать нападков черносотенной прессы. Оригинальность его мнения застуживает того, чтобы привести из его статьи некоторые выдержки:
Вот что он говорит об успехе «Воскресения»:
«Внешний успех романа вполне соответствует всемирной репутации автора: роман читался нарасхват, вышел в бесчисленных изданиях, переведен на все языки и заставил о себе говорить едва ли не все литературные органы и не всех литературных критиков мира. Но успех другого рода, успех внутренний, тот, который определяется силон произведенного впечатления и прочностью влияния? Этого успеха роман Толстого не имел, никогда не возымеет, и это не только естественно, в порядке вещей, но и вполне разумно и вполне справедливо. Вот пункт, который, мне кажется, необходимо разъяснить».
Разъяснив и удовлетворившись «разносом» «Воскресения», критик делает себе такое возражение:
«Читатель заметил, конечно, что я ничего не говорю о психологической стороне романа, сосредоточив все внимание на его общественных тенденциях. Кто же воскрес в «Воскресении»? Что за люди Нехлюдов и Катя Маслова и в чем выразилось их нравственное обновление, если под воскресшими именно их подразумевать? Но дело в том, что никакой психологии в романе нет, да нет и никакого вообще романа, а есть страстный социально-моральный памфлет, направленный против наших культурно-общественных идеалов и стремлений. Нехлюдов и Маслова отнюдь не характерны, не типы, это не более, как марионетки, изготовленные автором только для произнесения нужных ему слов, для совершения нужных ему поступков».
С г-ном Протопоповым не согласны не только русские, но и европейские критики; французский критик Пелисье говорит о «Воскресении» так:
«Вместе с «Воскресением» Толстой возвращается к искусству. «Воскресение» является настоящим романом, а не известного рода трактатом». И далее он рассуждает так:
«Воскресение» есть прежде всего прекрасное произведение по правдивости сцен и картин. Мы можем сравнивать Толстого с нашими реалистами, только противополагая его им. Нередко им сильно доставалось от него. Что ему не нравится в них, это прежде всего их нравственное равнодушие, даже у некоторых аффектированное презрение к людям. Ему не нравится также их преимущественное стремление показать нам наиболее худшее в жизни и мире. Но даже как художник он мало на них похож. Последние насилуют природу, чтобы вложить ее в рамки, заранее намеченные; они выпускают в целом все то, что не связано тесным образом с предметом, в каждой картине все, что не содействует общему впечатлению.
Искусство Толстого более широко, более гибко, ближе к действительности. От этого известные недостатки, к которым я сейчас возвращусь, особенно растянутость, шокирующая наши латинские привычки. Но надо сознаться, что это искусство, менее строгое и менее сосредоточенное, дает нам лучшее ощущение самой жизни».
Приведем еще одно характерное место из статьи французского критика:
«Сюжет романа сводится целиком к двум главным лицам. Как то, так и другое анализированы с тонкою и глубокою правдивостью. Скажем лучше, автор не дает нам анализа, он поступает не так, как известные романисты, называемые психологами, которые, не умея придавать жизнь своим образам, заменяют действие тяжелыми комментариями. В его книге находится прекрасная глава «психологии», где он показывает внутреннюю работу, совершающуюся во время кризиса у Нехлюдова. Эта глава слишком длинна, чтобы передать ее всю целиком, слишком прекрасна для сокращения. Но вы увидите, читая ее, что даже тогда, когда дело идет, как там, о вопросе совести, психология романиста не походит на анатомическую. Нет ничего более патетического во всей книге. Автор не выставляет себя вместо лица: само лицо живет перед нашими глазами: вместо анализа у нас истинная драма».
Приведем здесь также мнение о «Воскресении» известного французского историка и публициста Анатоля Леруа-Болье. Он считал его редчайшим литературным событием: «Воскресение» – это роман, написанный на вперед заданный моральный тезис, и в то же время возведен был автором на степень величайшего художественного произведения, поражающего читателя своей жизненностью и правдой».
Серьезную и проникновенную статью о «Воскресении» написал покойный А. Богданович в «Мире Божьем». Мы позволяем себе сделать из его статьи более обширные выписки:
«Прежде всего, – говорит критик, – невольное изумление охватывает читателя при виде этой неувядающей силы творчества, какую проявил великий писатель, семидесятилетие которого еще так недавно было отпраздновано литературой и в России, и за границей. Несмотря на очевидную порчу, которой, несомненно, подвергся роман в различных местах, и вся концепция его, и отдельные, удивительной красоты места вполне напоминают того Толстого, каким мы его знаем в «Войне и мире» или «Анне Карениной». Та же широта захвата жизни, легкость и естественная простота, с какими гениальный автор переносит нас из тюрьмы в зал суда, из суда в великосветское общество, из деревни в столицу, из приемной министра в камеру сибирского этапа. При этом не чувствуется ни малейшей деланности, как будто сама жизнь развертывается пред нами во всем своем разнообразии.
И как развертывается! Вы испытываете одновременно и потрясение от видимого ужаса, и несправедливость человеческих отношении, и умиление, и радость за неугасаемую жажду правды, которая все время чувствуется в каждом моменте этих отношении. Даже в сценах самого дикого разгула насилия и неправды слышится неумолчный голос недремлющей совести, к которому чутко прислушивается автор и с потрясающей силой передает читателю. Благодаря этому чувству умиления, при виде торжества совести над видимым господством лжи, дикости, произвола, тягостных и ненужных жестокостей, чем так опутана жизнь человечества, – выносишь ощущение бодрящей свежести и радостного настроения. Это общее впечатление можно бы сравнить с тем, какое производят старинные легенды о мученичестве праведников. Как в этих легендах, так и здесь вся эта власть грубой силы и лжи кажется чем-то ненастоящим, без корней, чем-то таким, что непрочно, не имеет внутреннего развития, а лишь временно и преходяще, что отпадает, как шелуха, когда наступит «полнота времен».
Анализируя различные моменты романа, критик приходит к такому заключению:
«История Катюши – это история тысячи тысяч Катюш, гибнущих на заре жизни и не воскресающих никогда. История Нехлюдова – тоже обычная история постепенного падения огромной массы когда-то хороших и чистых юношей, превращающихся в сытых, самодовольных животных, в безумии эгоизма не замечающих этого падения. А вся обстановка, при которой разыгрывается драма этих двух людей, жизнь в тюрьме, суд, этап, высшая бюрократия – разве эта не сама действительность, та «настоящая жизнь», к которой мы так привыкли, что уже и не замечаем всех ее ужасов? И нужен такой огромный талант, как Толстого чтобы заставить нас очнуться и задуматься над нею.
Этого результата Толстой, несомненно, достиг. Ни одно крупное художественное произведение не было так распространено, как «Воскресение», так читаемо и обсуждаемо. Оно проникло в самые далекие уголки, куда редко проникает книга, и там возбудило еще большее внимание, чем на поверхности жизни. Огромное значение этого факта скажется в той или иной форме в свое время. Теперь же можно сказать, что результат будет самый благотворный, ибо и мысли, и чувства, возбуждаемые романом, очищают душу и воскресят не одного Нехлюдова, спасут не одну Катюшу».
Закончим наше краткое обозрение выдержками из статьи известного критика и публициста Андреевича (Соловьева).
Вот какое мнение высказывает он о новом произведении Льва Николаевича:
«Воскресение» Толстого лучше всего доказывает, как неутомимо работает его критическая мысль, как старается он вскрыть язвы нашей жизни, похоронить мертвецов и еще раз напомнить людям, что «суббота для человека, а не человек для субботы», что «веселы растения, птицы и насекомые и дети, но люди – большие, взрослые люди – не перестают обманывать и мучить друг друга», что они считают, что важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что мы сами выдумали, чтобы властвовать над людьми…
Толстой в своем романе перечисляет все те субботы, в жертву которым люди приносят живущее в их душе царство Божие. Это субботы условностей, обычаев и приличий, жестокости и власти над другими, субботы формализма, рутины и правил, желание стать выше других и показать свое превосходство. над ними. В этом смысл воистину гениального романа…»
И далее тот же критик говорит так:
«Воскресение» Толстого – самое благородное произведение, которое мне приходилось читать. Целые поколения будут и должны черпать из него силу для борьбы со своим самообманом и самодовольством».
Наконец почтенный критик обращает внимание и на язык произведения. Он приводит мнение о языке известного английского ценителя искусства Джона Рескина; сущность его мнения заключается в том, что в языке выражается характер души говорящего. «Секрет речи, – говорит Рескин, – есть секрет сочувствия, и полное очарование ее доступно только благородному. Таким образом, правила прекрасной речи сводятся все к присутствию в речи искренности и доброты».